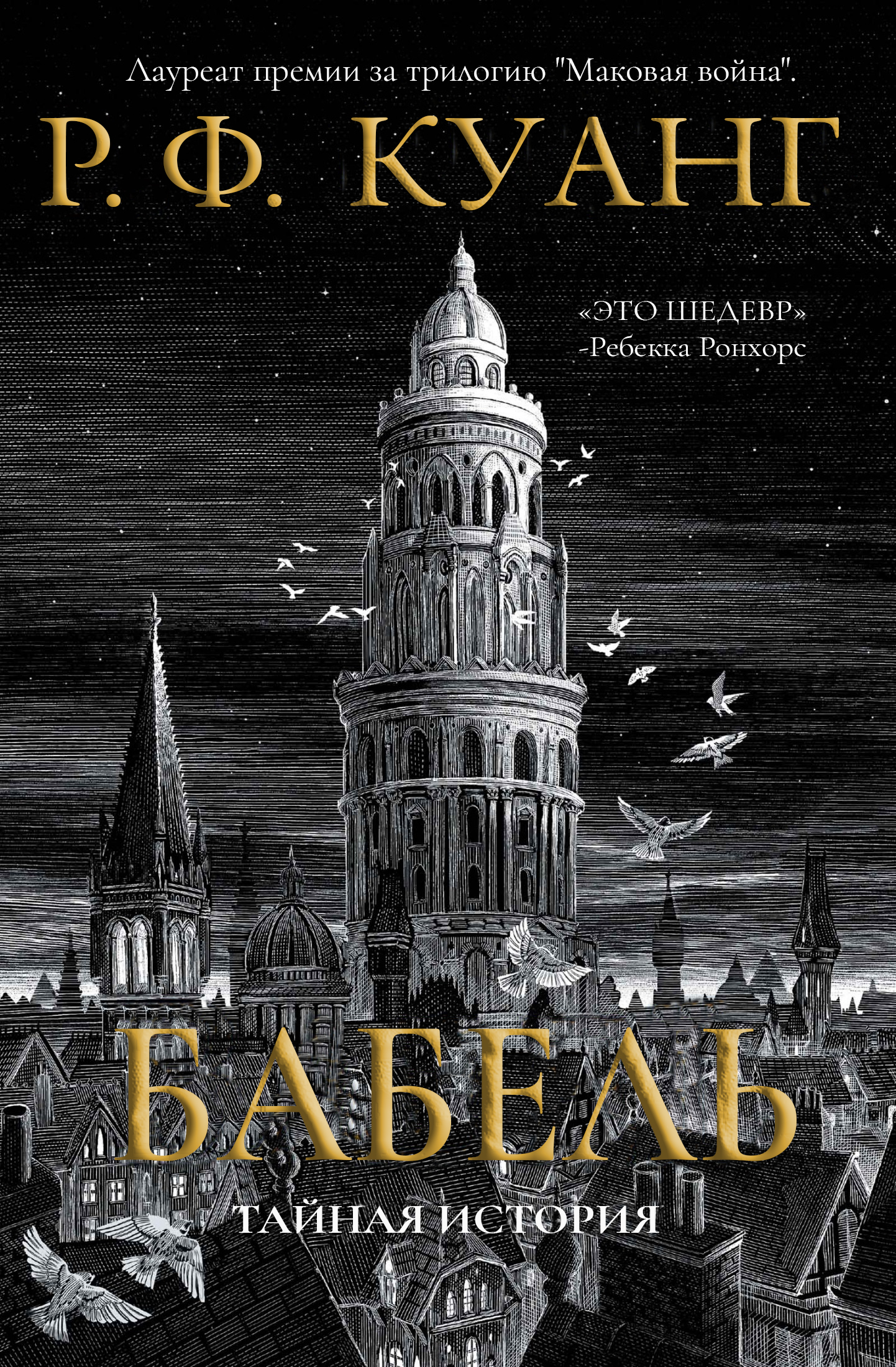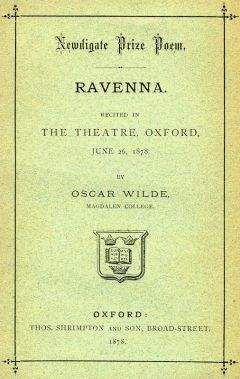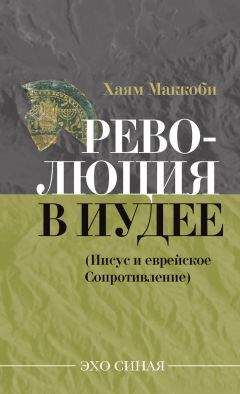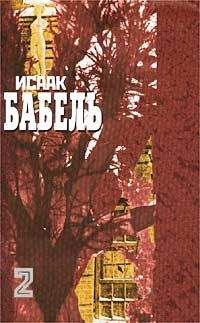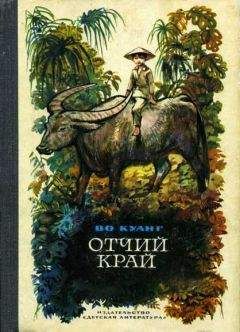уверен, что Летти ранит Викторию, — но как только он приблизился к ней, Рами толкнул его в бок. Он упал вперед, споткнувшись о ножку стола...
И тут Летти разрушила мир.
Щелчок, удар.
Рами рухнул. Закричала Виктория.
Робин упал на колени. Рами был вялым, неподвижным; он изо всех сил старался перевернуть его на спину. «Нет, Рами, пожалуйста...» На мгновение он подумал, что Рами притворяется, ибо как такое возможно? Всего секунду назад он был на ногах, живой и подвижный. Мир не может закончиться так внезапно; смерть не может быть такой быстрой. Робин похлопал Рами по щеке, по шее, по чему угодно, лишь бы вызвать реакцию, но все было бесполезно, глаза не открывались — почему они не открывались? Конечно, это была шутка; он не видел крови — но потом заметил ее, крошечную красную точку над сердцем Рэми, которая быстро разрасталась наружу, пока не пропитала рубашку, пальто, все вокруг.
Виктория отступила от камина. Бумаги потрескивали в пламени, превращаясь в пепел. Летти не сделала ни единого движения, чтобы забрать их. Она стояла ошеломленная, широко раскрыв глаза, револьвер безвольно висел у нее на боку.
Никто не двигался. Все смотрели на Рами, который был неоспоримо, необратимо неподвижен.
«Я не...» Летти прикоснулась пальцами ко рту. Она потеряла спокойствие. Теперь ее голос был очень пронзительным и высоким, как у маленькой девочки. «О, мой Бог...»
«О, Летти.» тихо стонала Виктория. Что ты наделала?
Робин опустил Рами на пол и встал.
Однажды Робин спросит себя, почему его шок так легко перешел в ярость; почему его первой реакцией было не неверие в это предательство, а черная, всепоглощающая ненависть. И ответ ускользнет от него, потому что он будет на цыпочках ходить вокруг запутанного клубка любви и ревности, который опутал их всех, которому у них не было ни названия, ни объяснения, истины, которую они только начали осознавать и теперь, после этого случая, никогда не признают.
Но в тот момент все, что он знал, было красным, расплывающимся по краям его зрения, вытесняющим все, кроме Летти. Теперь он знал, каково это — по-настоящему желать смерти человеку, желать разорвать его на части, услышать его крик, заставить его страдать. Теперь он понимал, что такое убийство, что такое ярость, ведь это и было оно, намерение убить, которое он должен был испытывать, когда убивал своего отца.
Он бросился на нее.
Не надо, — закричала Виктория. «Она...»
Летти повернулась и убежала. Робин бросился за ней, как раз когда она скрылась за массой констеблей. Он наседал на них; его не волновала опасность, дубинки и пистолеты; он хотел только добраться до нее, хотел вырвать жизнь из ее шеи, разорвать белую суку на куски.
Сильные руки отбросили его назад. Он почувствовал тупую силу в области поясницы. Он споткнулся. Он слышал крики Виктории, но не мог разглядеть ее в толпе констеблей. Кто-то набросил ему на голову матерчатый мешок. Он с силой дернулся; его рука ударилась о что-то твердое, и давление на спину немного ослабло, но затем что-то твердое ударило его в скулу, и взрыв боли был настолько ослепительным, что он потерял сознание. Кто-то защелкнул наручники на его руках за спиной. Две пары рук схватили его за руки, подняли и потащили из читального зала.
Борьба закончилась. В Старой библиотеке было тихо. Он судорожно тряс головой, пытаясь стряхнуть с себя мешок, но все, что он успел увидеть, — это опрокинутые полки и почерневший ковер, прежде чем кто-то плотнее натянул мешок ему на голову. Он не видел ни Вимала, ни Энтони, ни Илзе, ни Кэти. Он больше не слышал криков Виктории.
Виктория?» — задыхался он от ужаса. Виктория?
«Тише,» сказал глубокий голос.
Виктория!» — крикнул он. «Где...»
«Тише, ты.» Кто-то откинул капюшон ровно настолько, чтобы засунуть тряпку ему в рот. Затем его снова погрузили в темноту. Он ничего не видел, ничего не слышал; только мрачная, ужасная тишина, пока его вытаскивали из руин Старой библиотеки и усаживали в ожидающее такси.
Ты рождена не для смерти, бессмертная Птица!
Ни одно из голодных поколений не погубит тебя.
ДЖОН КИТС, «Ода соловью».
Неровные булыжники, болезненные толчки. Вылезай, иди. Он повиновался, не задумываясь. Они вытащили его из повозки, бросили в камеру и оставили наедине с мыслями.
Прошло несколько часов или дней. Он не мог сказать — у него не было чувства времени. Он был не в своем теле, не в этой камере; он жалко свернулся калачиком на каменных плитках, оставив позади себя ушибленное и ноющее настоящее. Он был в Старой библиотеке, беспомощный, наблюдая снова и снова, как Рами дергается и подается вперед, словно кто-то пнул его между лопаток, как Рами лежит, обмякнув, на его руках, как Рами, несмотря на все его попытки, больше не шевелится.
Рами был мертв.
Летти предала их, Гермес пал, а Рами был мертв.
Рами был мертв.
Горе душило. Горе парализовало. Горе было жестоким, тяжелым сапогом, который так сильно давил ему на грудь, что он не мог дышать. Горе вырвало его из тела, сделало его раны теоретическими. У него шла кровь, но он не знал, откуда. У него все болело от наручников, впившихся в запястья, от твердого каменного пола, упирающегося в конечности, от того, как полицейские повалили его, словно пытаясь переломать все кости. Он регистрировал эти боли как фактические, но он не мог их почувствовать; он не мог почувствовать ничего, кроме единственной, ослепляющей боли от потери Рами. И он не хотел чувствовать ничего другого, не хотел погружаться в свое тело и регистрировать его боль, потому что физическая боль означала бы, что он жив, а быть живым означало двигаться вперед. Но он не мог идти дальше. Не отсюда.
Он застрял в прошлом. Он возвращался к этому воспоминанию тысячу раз, точно так же, как он возвращался к смерти своего отца. Только на этот раз вместо того, чтобы убеждать себя в том, что он не собирался убивать, он пытался убедить себя в том, что Рами жив. Действительно ли он видел, как Рами умер? Или он только слышал выстрел, видел кровь и падение? Осталось ли дыхание в легких Рами, жизнь в его глазах? Это казалось таким несправедливым. Нет, казалось невозможным, что Рами мог так внезапно покинуть этот мир, что он мог быть таким живым в одно мгновение и таким неподвижным