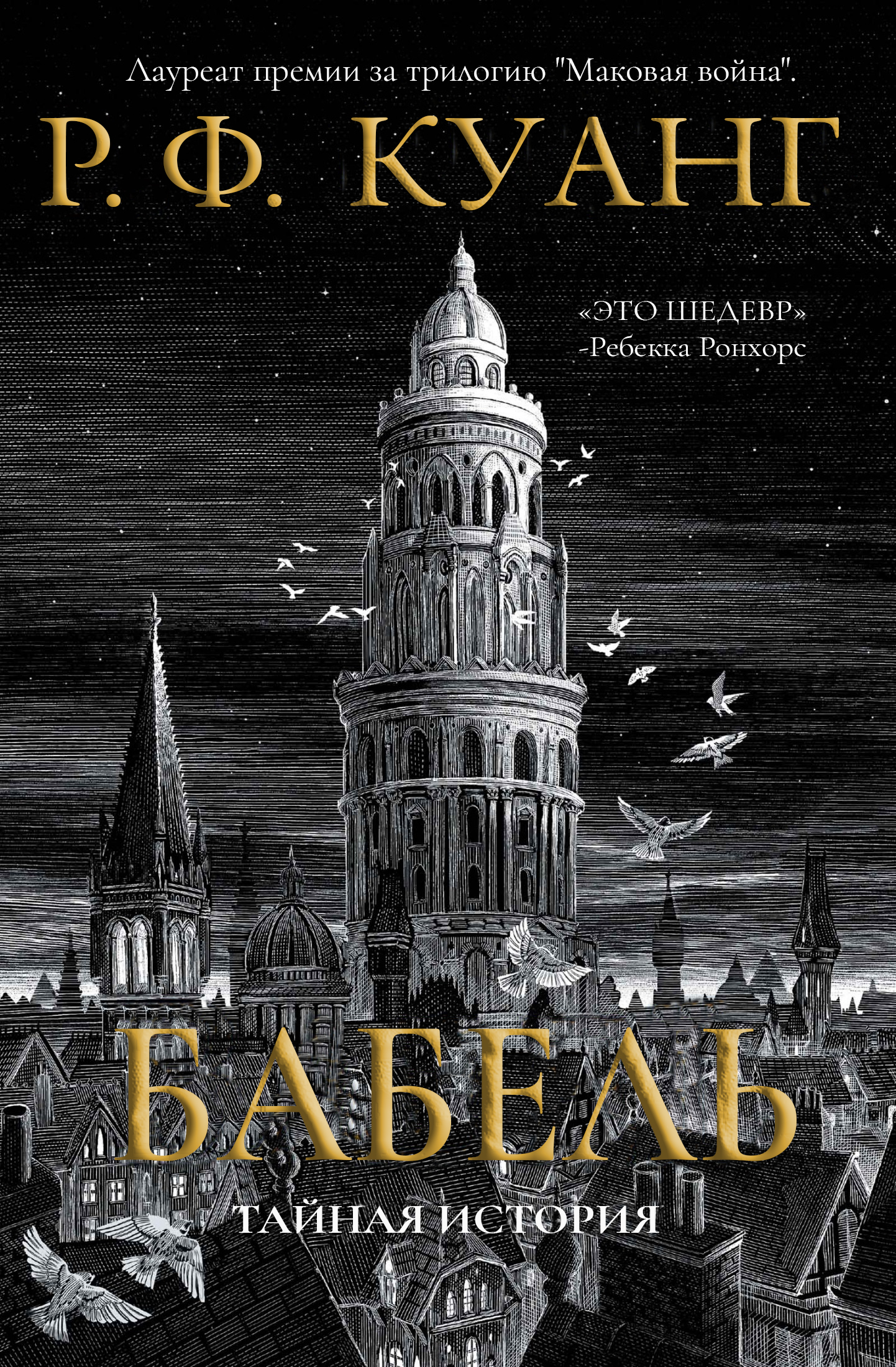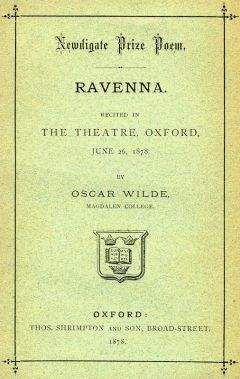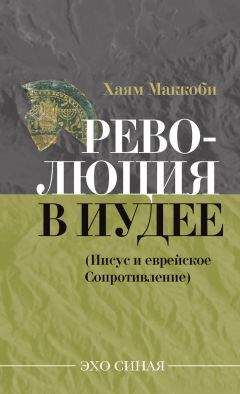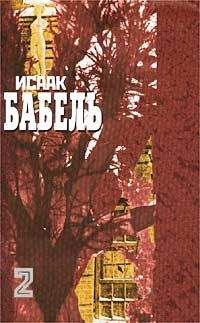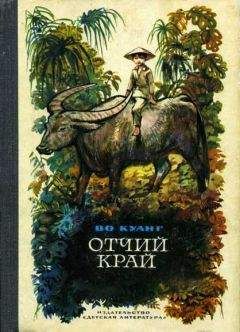в следующее. Казалось, что это противоречит законам физики, что Рамиз Рафи Мирза может замолчать от такой ничтожной пули.
И уж конечно, Летти не могла целиться ему в сердце. Это также было невозможно. Она любила его, любила почти как Робин — она говорила ему об этом, он помнил, — и если это правда, то как она могла смотреть в глаза Рами и стрелять на поражение?
А это означало, что Рэми мог быть жив, мог выжить вопреки всему, мог вытащить себя из бойни в Старой Библиотеке и найти себе укрытие, мог еще поправиться, если бы только кто-то вовремя нашел его, вовремя залечил рану. Маловероятно, но возможно, возможно, возможно...
Возможно, когда Робин выберется отсюда, когда они воссоединятся, они будут так смеяться над всем этим, что у них заболят ребра.
Он надеялся. Он надеялся до тех пор, пока надежда не превратилась в пытку. Первоначальное значение слова «надежда» — «желать», и Робин всеми силами души желал мира, которого больше не было. Он надеялся до тех пор, пока не подумал, что сходит с ума, пока не начал слышать обрывки своих мыслей, как будто сказанные вне его, низкие, грубые слова, которые эхом разносились по камню.
Я желаю...
Я сожалею...
И затем шквал признаний, которые не принадлежали ему.
Хотел бы я любить ее лучше.
Лучше бы я никогда не прикасался к этому ножу.
Это было не его воображение. Он поднял пульсирующую голову, его щека была липкой от крови и слез. Он огляделся вокруг, пораженный. Камни разговаривали, шепча тысячу разных свидетельств, каждое из которых слишком заглушалось другим, чтобы он мог разобрать что-то, кроме мимолетных фраз.
Если бы, говорили они.
Это несправедливо, говорили они.
Я заслуживаю этого, говорили они.
И все же, среди всего этого отчаяния:
Я надеюсь...
Я надеюсь...
Я надеюсь, вопреки надежде.
Поморщившись, он встал, прижался лицом к камню и пошел вниз по стене, пока не обнаружил блеск серебра. На стержне была выбита классическая цепочка из греческих, латинских и английских маргариток. Греческое epitaphion означало «похоронная речь» — нечто произнесенное, то, что должно быть услышано; латинское epitaphium, аналогично, относилось к надгробной речи. И только современная английская эпитафия обозначала нечто написанное и безмолвное. Искаженный перевод дал голос написанному. Он был окружен исповедями мертвых.
Он опустился и сжал голову в руках.
Какая уникальная ужасная пытка. Какой гений придумал это? Смысл, несомненно, заключался в том, чтобы напитать его отчаянием всех остальных несчастных, заключенных здесь, наполнить его такой непостижимой печалью, чтобы на допросе он отдал кого угодно и что угодно, лишь бы это прекратилось.
Но эти шепотки были излишни. Они не омрачали его мысли, а лишь вторили им. Рами был мертв, Гермес пропал. Мир не мог продолжаться. Будущее было лишь бескрайним черным пространством, и единственное, что давало ему хоть каплю надежды, — это обещание, что когда-нибудь все это закончится.
Дверь открылась. Робин рывком проснулся, испугавшись скрипа петель. Вошел изящный молодой человек со светлыми волосами, собранными в узел чуть выше шеи.
Здравствуйте, Робин Свифт, — сказал он. Его голос был мягким, музыкальным. Вы меня помните?
Конечно, нет, чуть было не сказал Робин, но тут мужчина подошел ближе, и слова замерли у него на языке. У него были те же черты лица, что и на фризе в часовне Университетского колледжа: тот же прямой аристократический нос и умные, глубоко посаженные глаза. Робин видел это лицо всего один раз, более трех лет назад, в столовой профессора Ловелла. Он никогда его не забудет.
«Вы — Стерлинг». Блестящий, знаменитый Стерлинг Джонс, племянник сэра Уильяма Джонса, величайшего переводчика эпохи. Его появление здесь было настолько неожиданным, что на мгновение Робин смог только моргнуть. «Почему...»
«Почему я здесь?» Стерлинг рассмеялся. Даже его смех был изящным. «Я не мог пропустить это. Не после того, как они сказали мне, что поймали младшего брата Гриффина Ловелла».
Стерлинг притащил в комнату два стула и сел напротив Робина, скрестив ноги в коленях. Он одернул пиджак, чтобы поправить его, затем наклонил голову к Робину. «Боже мой. Вы действительно стали похожи. Хотя ты немного проще на вид. Гриффин только усмехался и охал. Как мокрая собака». Он положил руки на колени и наклонился вперед. Так ты убил своего отца, да? Ты не похож на убийцу».
А ты не похож на окружного полицейского, — сказал Робин.
Но даже когда он это сказал, последняя ложная двоичность, которую он создал в своей голове — между учеными и клинками империи — отпала. Он вспомнил слова Гриффина. Он вспомнил письма своего отца. Работорговцы и солдаты. Готовые убийцы, все они.
«Ты так похож на своего брата». Стерлинг покачал головой. Как там в Китае говорят? Барсуки из одного кургана или шакалы из одного племени? Наглые, дерзкие и такие невыносимо самоуверенные». Он сложил руки на груди и откинулся назад, оценивая его. Помоги мне понять. Я никогда не мог понять это с Гриффином. Просто — почему? У тебя есть все, чего ты только можешь пожелать. Тебе не придется работать ни дня в своей жизни — во всяком случае, не работать по-настоящему; это не считается, когда речь идет о стипендии. Ты купаешься в богатстве».
«Мои соотечественники — нет,» сказал Робин.
«Но ты не твой соотечественник!» воскликнул Стерлинг. «Ты — исключение. Ты счастливчик, возвышенный. Или ты действительно находишь больше общего с этими бедными дураками в Кантоне, чем с твоими соотечественниками из Оксфорда?
«Нахожу», — сказал Робин. Твоя страна каждый день напоминает мне об этом».
«Так вот в чем проблема? Некоторые белые британцы были не очень добры к тебе?
Робин не видел смысла спорить дальше. Глупо было вообще подыгрывать ему. Стерлинг Джонс был таким же, как и Летти, только без поверхностного сочувствия, вызванного мнимой дружбой. Они оба считали, что речь идет об отдельных судьбах, а не о систематическом угнетении, и ни один из них не мог видеть дальше людей, которые выглядели и говорили точно так же, как они.
«О, не говори мне.» Стерлинг вздохнул. Ты сформировал полунадуманную идею, что империя — это как-то плохо, не так ли?
Ты знаешь, что они поступают неправильно, — устало сказал Робин. Хватит эвфемизмов; он просто не мог, не хотел поверить, что такие умные люди, как Стерлинг Джонс, профессор Ловелл и мистер Бейлис, действительно верят, что их жалкие оправдания были чем-то иным. Только такие люди, как они, могли оправдывать эксплуатацию других народов и стран умной риторикой, словесными