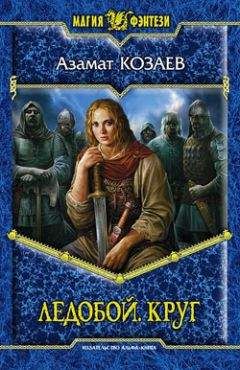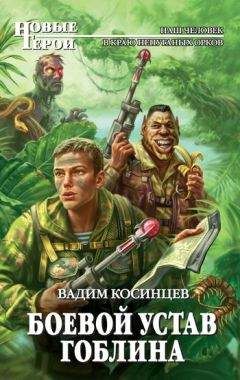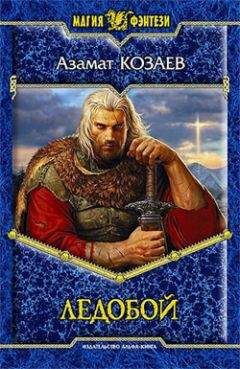– Скалистый остров, значит, Скалистый остров, – кивнула Верна.
– А назад когда же? – Кормщик хитро взглянул на странную бабу. И дружина у нее странная, как пить дать головорезы. Какой добрый человек полезет в море на ночь глядя. – Скалистый остров – место пустынное. Ладьи туда не ходят, добраться доберетесь, а обратно?
– Оттуда мы уйдем другой дорогой, – мрачно буркнула и отвернулась. Понимай как хочешь.
– Взлетят, что ли? – Кормщик задумчиво поджал губы, едва странная дружина отошла грузиться. – Как птицы, что ли?
Ушли вскоре после заката, и Верне показалось, будто время ускорило бег. Не успеваешь оглянуться, день прощально машет, а возьмешься дни считать, ум за разум заходит. Села под бортом и бездумно уставилась в сизое небо. Тут совсем рядом плещется волна, только борт перемахни и поглубже вдохни. Но останутся семеро, которые… которых… которым…
Они не кривятся и не стонут, не сетуют на судьбу и не плюется с досады, не матерятся, не бьют себя в грудь. Все стоит перед глазами лицо Балестра, и будто въяве слышится невысказанная мольба о покое. В глазах ли усмотрела, нутряным своим бабьим чутьем поймала, но в тот день у тризнища словно услышала вздох облегчения в реве пламени. Они бьются, рвут, полосуют, режут, рубят, но в семерых скручен, спеленат, стреножен крик, что ждет своего тризнища. Теперь уверена в этом. Уйдешь на дно, нахлебаешься соленой воды, а семеро? Останутся на этом свете, перейдут ли в охрану еще какой-нибудь дурочке? Покоя хочется. Для себя, для Безрода, для семерых, но странными игрищами судьбы покой одних сопряжен с гибелью других. И просто соленой водой дела не поправить…
– Говорят, в этих краях буря бушевала! – крикнул с кормы словоохотливый ладейщик. Сразу уяснил, что по-человечески можно поговорить только с этой странной бабой, остальные семеро лишь молча смотрят, и чего только не передумаешь за считаные мгновения. – Вчера как раз и бушевала. Едва небо на землю не опрокинулось, а может, и опрокинулось. Кругом черным-черно и вода! И студено сделалось, ровно поздней осенью. А может, и зимой!
– И часто штормит? – встала, пересела поближе.
– Мрачное место. Два года назад оттниры вырезали заставу, вчерашняя буря разразилась как раз над Скалистым островом. Мне рассказывал Кривляк, его вчера там и носило. Говорит, небо враз потемнело, ровно плеснули вверх жбан с дегтем. И захолодало, аж пар изо рта пошел. Невезучая земля. То кровищей зальет, то молниями иссечет.
– И никто не выжил?
– Говорят, выжил один ухарь. Горазд рубиться, если от полчища оттниров ушел. Еще врут, будто он полуночное войско покромсал за здорово живешь и самого их ангенна едва пополам не разрубил. Сам не так чтобы велик, но страше-э-эн!.. Шрамами расписан, что моя плошка узорами!
– Шрамами расписан?
– Ага. Кто-то постарался.
– Сивый?
– Ты тоже слышала?
– Да, – подтянула колени к груди, спрятала лицо.
Скалистый остров, залитый кровью, пустой и безлюдный… Безрод, Безрод, порою думать страшно, делаешься до странного похож на провидение. Глядишь в упор – не понимаешь, и только потом, по прошествии дней, становится ясно, что сделал, почему сделал и как. Не испугался-убежал, а на остров утянул, дабы не случилось больше ненужных смертей. Гарька, Гарька… слез больше не осталось, и ледок внутри не тает.
Тризнище сложили вне стен крепости, в чистом поле. До поздних сумерек Безрод просидел у дровницы рядом с останками, руку держал на плаще, так и задремал, привалясь к березовым четвертинам. Стюжень в ночи укрыл одеялом, пригладил сивый вихор, постоял-постоял и осторожно завалил на бок. Плаща Сивый так и не отпустил, потащил за собой. Ворожец уже было отошел от амбара, как в спину догнал холодный голос:
– Они уже близко. Утром будут здесь.
– Завтра так завтра. Спи, босота.
Прислушался. Молчит. Но спит ли?..
Словно уже было такое – подходишь к дружинной избе ни свет ни заря, а он уже сидит на ступенях. Сна ни в одном глазу, смотрит в землю, взгляд холоден, губы поджаты.
– Подскочил? Чего не выспался? Не самый легкий день предстоит.
– Выспался, – буркнул Сивый. – Мать снилась.
– Видел?
– Да. Только неясно, ровно в тумане. И глядел на нее снизу вверх.
Стюжень присел рядом.
– Волосы густые, добрые, пшеницей отливают. Покров лазоревый, платье белое. Лицо… лица не видел. Хочу присмотреться и не вижу. Туманом заволакивает.
Ворожец развел руками. Что тут поделаешь? Парни уже встали, бегали на море, плескались. Теперь деловито сновали по двору.
– Пора. – Старик хлопнул Безрода по колену и первым поднялся со ступеней.
– Пора, – согласно кивнул. Спустился с крыльца, бережно поднял плащ и вышел вон со двора.
Друг за другом походники нырнули в пролом, Гюст нес горшок с углями, Расшибец – промасленные светочи. У тризнища Безрод остановился, задрал голову к небу, что-то прошептал и, Шагнув ближе, положил останки на край дровья. Одним рывком взлетел наверх и, развернув плащ, разложил кости, как лежал бы человек на погребальном костре. Последний раз погладил мать и выпрямился. Нахмурился. Что говорить?.. Как безмерно ее любил? Увы, не было любви, не случилось. Вывернута безжалостной судьбой, ровно дуб-исполин в кромешную грозу, только ямища от той любви и осталась, всякий раз спотыкаешься, как мимо ходишь. Сказать, как хотел жить ради близкого человека и защищать? Всякий хочет, если не дурак. Как не хватало понимающего слова и глазел туда-сюда, по крупицам собирая из воздуха чужую мудрость? Все и так понятно. Молча достал нож, пустил себе кровь, и оставил на черепе кровавую отметку. Выйдет мать из тени, где блуждала много лет, ступит в небесный чертог, погребенная как положено, и скажет: «Сын у меня есть, вот видите! Сын у меня есть!..»
Гюст подал зажженный светоч. Безрод спрыгнул и запалил дровье. Все, полыхает.
Ночью шли по звездам, благо небо выдалось чистое и безоблачное. Ветер трепал парус, ладья шла на запад, и к утру из морских вод поднимется Скалистый остров. Верна хотела уснуть, думала, что спит, а вышла только полудрема. Дрыгала ногами, отмахивалась от кого-то руками, стонала. Бабы говорили на отчем берегу, будто накануне свадьбы так же не спится, колобродит в груди, словно буря бушует. Год на исходе. Спросить бы у кого, отчего так получается, что все сбегается воедино и разрешится лишь за несколько дней до истечения последнего, урочного дня?
– Подходим! – разбудил Маграб. Казалось, только что улеглась на палубу под овчинную верховку, и вот поднимают. Уже утро?
Вставало солнце, разрумянило небо. Проснулся и ветер, потащил корабль.
– Гляди вперед, земля! – крикнул кормщик. Слава богам, дошли благополучно. Впрок деньги пойдут.