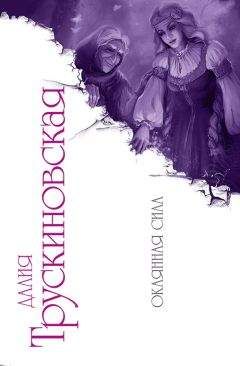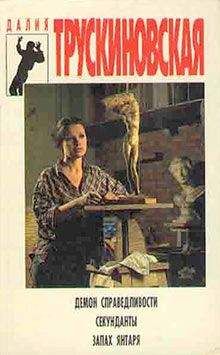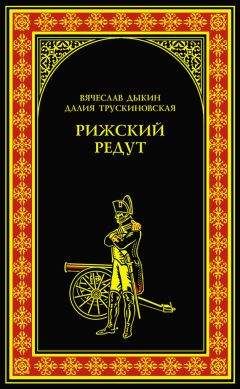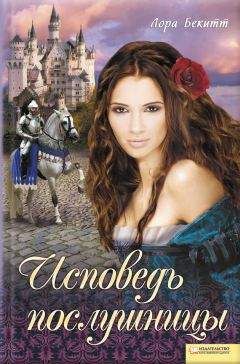— Входи, Аленушка, — позвал Гриша, оборачиваясь, уже из притвора. — Что ты так-то — на пороге… Сюда твой волк за тобой не увяжется.
— Грешница я, Гриша, — не осмеливаясь войти, сказала Алена.
— Ну, и я грешник, — охотно признал себя за равного Гриша.
— Нет мне прощения…
— Это ты брось. Это — гордыня. Может, и в тебя бес вселился? — снова намекая на историю с Савелием, спросил юный батюшка. — Входи, лоб перекрести, расскажи, пожалуйся… тут тебя волки не тронут… а я послушаю…
— Только ты меня, Гришенька, и поймешь.
Алена, перекрестясь, вошла — и гром из-под купола не грянул. Она осторожно присела на лавке.
— Помнишь, как я того попа языка лишила?
— Как не помнить.
Гриша сел рядышком, повернулся к ней, подперся, приготовился слушать.
— Тогда я, помнишь, жаловалась — что вошла в меня сила окаянная. Вошла, Гришенька, только я с ней управиться тогда не умела, а она мной управляла. Пошла я на выучку… к ворожее, Гриша… к Степаниде Рязанке… она на Москве славилась… надо ж было как-то с силой совладать…
— А ты не оправдывайся, ты просто говори, нешто я тебя не пойму? Как перед Господом — не оправданий ищи, а грехи честно перечисляй, и сжалуется над тобой…
— Да, оправдываюсь я, — согласилась Алена. — Тошно мне, Гриша. Научилась я многому. Вон с Савелием сладила… А потом, Гриша… потом во мне злость проснулась — на тех, кто меня в материнской утробе проклял, кто не только мою — Дунюшкину жизнь загубил! Помнишь, как с тем Савелием было? Ведь я чуть было не отступилась, а ты крикнул — берегись, Алена, тебя ненавистью искушают!
— Не помню я что-то, чтобы в церкви кричал.
— Было, Гришенька, я запомнила… Не кори себя, ты не грех совершил, а, может, душу Савелию тем криком спас. Я тогда и не поняла сгоряча, сколь сильно это искушение. Гриша, я ведь силу свою на смертные дела тратила!..
Сползла Алена со скамьи, извернулась, снова припала к Гришиным коленям.
— Федьку первым истребила — кабы не он, жила б я в Успенской обители, что в Переяславском уезде, и горя не знала! Затерло Федьку между льдинами — а я ему кричала: «Бог наказал!» Потом Пелагейку-доносчицу, Гришенька! Как уходила — поглядела на нее и думаю — за то зло, какое от тебя Дунюшке было, получай! Потом…
— Не надо, Алена. Не исповедуешься, чай, — положив ей руки на плечи, ласково сказал Гриша. — Может, доносчика порешить — и невелик грех? Сие лишь Господу ведомо.
— Не ври, Гришка! — воскликнула Алена. — Грех! Смертный! Не утешай!
— Я не судить, а утешать послан, — тихо произнес Гриша. — Осужденному — казнь, и это дело Богово, а если кого пожалели и утешили — тот воспрянет, Аленушка.
— Стало быть, ты бы на исповеди мне этот грех отпустил? — сердито спросила Алена. — Так он же на тебя бы лег!
— Я, Аленушка, прост и малоумен, но одно я знаю — тот грех, что грешнику самому ввек не замолить, ближние замолят. Ты свечи за упокой ставишь?
— Нет!.. — в ужасе вскрикнула Алена. — Гришенька, прости, грешна — не догадалась!.. Где тут у тебя свечной ящик?
И ухватилась за подол, бесстыдно его завернула и вздернула, и впилась зубами в шов, высвобождая денежки.
— Грешники в аду сами за себя помолиться не могут — у них на нас, на живых, вся надежда. А мы, когда молитва наша прохладна, святых угодников просим — молитесь за нас, вы к Божьему престолу ближе, он вас услышит! Богородицу просим, архангелов… И пока вот так друг за дружку молимся, — до той поры и спасены… — как бы не слыша ее вопля и не видя ее суетливости, а глядя вовсе в сторону, негромко произнес Гриша.
Деньги, что посыпались на пол, он отодвинул ногой в грязном лапотке. Алена уставилась на лапоть в изумлении.
— Денег моих не принимаешь? — яростно спросила она, поднимая глаза.
Рык запросился из напряженного горла, грозный волчий рык — и вдали откликнулся этому позыву колдовской волк, и взмолился коротким воем — кликни, ну, кликни, хозяйка! Миг же настал!
— Да бери ты свечки так, ради Христа, — беззаботно отвечал Гриша, как бы видеть не желая, что перед ним — готовая пролиться на его голову злобная колдовская сила. — Бери, ставь. Деньги тебе на обратный путь пригодятся.
Странно сделалось Алене. Гриша не сопротивлялся, не спорил, не схлестывался с ней, но мягкостью своей и незлобливостью заставлял ее отступить. И стыдно ей стало — на кого взъярилась? И жутко ей стало — уж коли сила подскажет ей и кроткого Гришу погубить, то что же далее-то?..
— Гриша, Гришенька, не могу я боле с этой силой! Избавляться мне от нее надо! — взмолилась Алена. — Во всем она мне поперек пути встала! Спас Златые Власы от меня отвернулся! Степанидушка-то… Грешна я, Гришенька, во всем грешна!.. И еще грехов от меня сила требует! Не могу, ох, не могу, не могу, не могу…
И зарыдала она, да так, как еще доселе не приходилось.
— Убьет меня эта сила окаянная! Зверя она из меня сделает!..
— Уймись, Аленушка, — Гриша гладил ее по плечу, да проку от этого было мало. — Уймись, Христа ради…
— Я вот сейчас уймусь, — сказала, задыхаясь, Алена, — да ведь теперь уж навсегда уймусь! Мне ведь эта сила уж сколько раз в радость была, Гриша, а теперь и навсегда она моей радостью станет! Гришенька, я же Степаниду Рязанку в могилу свела — и слезинки не пролила, Гриша, сама я теперь стала окаянная!.. А помирать-то, Гриша?
Алена оттолкнула юного батюшку, уставилась на него бешеными глазами.
— Гриша, меня же все бросят, как Устинью Кореленку бросили, у меня же кровь по телу выступит, огонь негасимый всю внутренность съест! А как совсем помирать — черные мурины налетят, по клочку меня расщиплют, Гришенька! И гореть мне в аду без спасения!
— Прими постриг, — строго сказал Гриша. — Нет такого греха, кой превозмог бы милосердие Божье. Молись — прощение вымолишь.
— Молилась, Гришенька. Погубила Степанидушку — в Моисеевскую обитель пошла, послушание нести. Среди ночи на молитву вставала, пост соблюдала, Гришенька, — а сна-то ни в одном глазу не было, а голода не чуяла! Смеялась надо мной сила окаянная — мол, я это тобой владею, сон и пироги тебе заменяю! И волчище из-за стены спрашивал — ну, не одумалась ли?
Гриша отстранил Алену, перекрестился и пошел к образам.
Встав на колени, он качнулся вперед, ударив лбом об пол, выпрямился и зашептал:
— Господи Боже спасения нашего, Сыне Бога живаго, на херувимах носимый, превыше всякого начала, власти, силы и господства. Ты еси великий и страшный над всеми сущими окрест тебя…
Алена молча смотрела ему в затылок.
— Врата медные стер еси и вереи железные сломал еси! Крепкого связал еси, и сосуды его раздрал еси, и мучителя крестом своим низложил еси, и узами мрака, в тартар посадив, связал еси! — с неколебимым убеждением обращался к Господу Гриша. — Сам убо, Царю небесный, утверждение надежду на Тя возлагающих, крепкая стена на Тя уповающих. Отступиться повели, отжени и в бегство претвори всяко диавольское действо и всякое сатанинское нахождение, всяк навет воспротивный и надлежащие силы от крова сего…