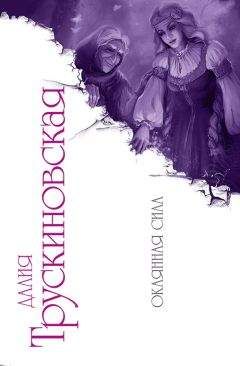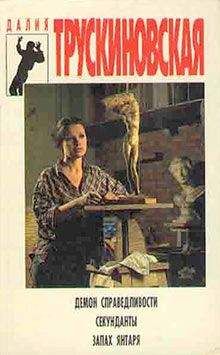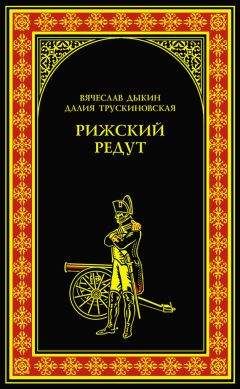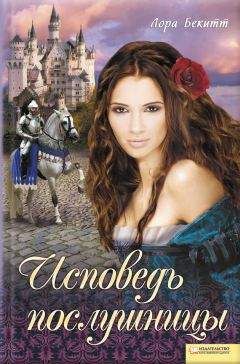Возок подъехал к крылечку.
Алена вышла и оказалась у самого подножья лестницы.
Вспомнилось, как поднималась она, хоронясь под шубой купчихи Калашниковой. И когда же то было? И она ли то была? Беглая девка верховая, до смерти перепуганная? Девка глупая да безгрешная…
— Сейчас за сундуками пришлю, — сказала Алена кучеру.
Последняя ее мирская радость была — потратить на торгу прикопленные совместно с покойной Рязанкой деньги, купить Любови Иннокентьевне подарки. И денег Алена не пожалела. Как бы то ни было — тот болотный остров, куда она угодила, едучи в Переяславский уезд, в Успенскую девичью обитель, всё же был лучше застенка, дыбы и кнута, которых не миновать было, если бы ее изловили да стали разбирать: то ли она государя ядом извести надумала, то ли колдовством. Купчиха, может статься, жизнь ей спасла, даже прозванья не спросив.
По лестнице торопливо спускалась плотная женщина, шубка — внакидку, Оглядела Алену — не понять, девка или баба, черница или мирянка, черный плат, черная телогрея, из-под которой — черные же рукава сорочки, и ни тесьмой, ни нашивками ничего не отделано.
— Бог в помощь, — Алена поклонилась ей.
— И тебе, свет.
Ввели Алену в просторную горницу, убранную старым обычаем, оставили одну. Она перекрестилась на образа, быстро прочитала про себя «Отче наш», и тут вошли две пожилые женщины — как водится в хорошем доме, опрятно одетые, с опущенными глазами, невзирая на любопытство. Сразу же отошли в сторонку, к лавке, у которой стояли их прялицы. За ними появилась и Любовь Иннокентьевна, статная, уверенная, и она-то уж глядела прямо в глаза.
— Ну, с чем пожаловала, купецкая вдова Алена Дмитриевна? — сурово осведомилась она, пока Алена размашисто кланялась в пояс. — С чем пожаловала… дочушка?
— А не с пустыми руками! — отвечала, распрямляясь, Алена. Она была готова и к более сердитому приему. — Прикажи, Любовь Иннокентьевна, чтобы сундуки мои в горницу внесли. Кланяюсь тебе золотом, и серебром, и всякими заморскими скляницами, и штукой лазоревой парчи, и веницейскими часами с небесной сферой, всего не упомнить… А ты прости меня, дуру, Христа ради, коли что не так!
— Бог простит, а сундуки в санях обождут, — сказала Любовь Иннокентьевна. — Лазоревую парчу я и сама купить за свои денежки горазда. Прикажу — купчишки домой не одну штуку принесут. Вы — ступайте. Надо будет — кликну.
Комнатные женщины, что пристроились было незаметненько прясть да слушать, встали, поклонились и вышли. Но, видать, остановились за дверью и притихли.
— Слыхивали мы тут про твои похождения и получали от тебя весточки… И всякое про тебя добрые люди говорили. Становись пред образа!
Иннокентьевна взяла Алену за руку, дернула к себе и поставила перед иконостасом.
— Перед Господом Богом нашим Иисусом Христом, перед матушкой Пресвятой Богородицей, говори — имени нашего калашниковского не посрамила?
Алена молча перекрестилась.
— Ну, говори же ты, окаянная девка! — не выдержала Иннокентьевна. — Язык у тебя к нёбу приморозило?
— Подарки мои ты можешь принять, Любовь Иннокентьевна, — тихо сказала Алена. — Урону калашниковскому роду я не нанесла. Разве что самой себе… Коли знать захочешь — расскажу, как за меня сватались, как на хитрость с ребеночком надоумливали. Но я обманом под венец идти не пожелала. Всё расскажу, о чем спросишь, а ты прости меня и зла на меня не держи.
— Ладно тебе. А то я не знаю, что могло на ум взбрести Петрушке Кардашову! Кто только не охотился за калашниковскими денежками! У меня, у старухи, и то от свах отбою нет. Да не гляди ты на меня, как псина побитая! Сказала же — Бог простит! — буркнула Иннокентьевна. — Гавриловна! Вели сундуки вносить. Савельевна, угощеньице спроворь! Подарки твои я приму, а ты нашим угощеньицем не побрезгай.
Она за руку подвела Алену к столу и усадила.
— Что же ты теперь делать будешь? — спросила она. — Замуж пойдешь? Или, как тогда затевала, в монастырь? Грехи замаливать?
— В монастырь, — твердо сказала Алена. — И прошу тебя, матушка Любовь Иннокентьевна, об одном — снаряди ты меня из своего дома! Чтобы я постриг приняла не как приблудная какая… Из тех денег, что я тебе пересылала, выдели сколько нужно на вклад.
— Что ж не замуж? — осведомилась купчиха.
— Кто меня возьмет… И грехи мои — тяжкие.
— Ты это, девка, брось! — Широкое, смуглое лицо Иннокентьевны пошло морщинками от сдерживаемой улыбки. — Какие у тебя грехи, окромя бабьих? Говорю же — свахи у меня все пороги оббили. Потехи ради их привечаю. Прикажу — такого женишка найдут, что всю жизнь за меня молиться будешь.
— И без того всю жизнь за тебя молиться буду, Любовь Иннокентьевна, — говоря это, Алена быстро соображала, с какой бы стати купчихе проявлять о ней такую заботу.
— Ты старшим не перечь. Приданое у тебя знатное…
— Нет у меня приданого!.. — взвилась Алена. — Всё, что было, к тебе попало! Видно, так Бог велел! Так что, матушка Любовь Иннокентьевна, сам Господь велел тебе меня в монастырь снаряжать! А мне более денег взять негде.
И было это чистой правдой — теперь уж не могла Алена разбойничьи клады отыскивать.
— Так я и говорю — приданое у тебя знатное, — нимало не смутившись отповедью, продолжала купчиха. — Одно людям на смех вышло — приданое приехало, а сама тамбовская красавица глаз не кажет. Свахи мои до того додумались — по ворожейкам пошли, жива ли, мол. И веришь ли, Алена Дмитриевна, нашлась одна, воск лила, в решето глядела да и заявила — пропала, мол, тамбовская невеста, и служите по ней панихидку…
Алена, склонив голову набок, слушала эти странные речи — и вдруг осенило ее.
— А с чего бы это свахам язык об тамбовскую красавицу чесать? — как можно язвительнее спросила она. — Ведь про это дело только мы с тобой и ведали, матушка Любовь Иннокентьевна!
— Кабы только мы! Кучер-то твой, Епишка, вернулся-то! Не до смерти его налетчики дядьки Баловня убили!
— Кучер, Епишка? — Алена мучительно припоминала — и вспомнила-таки, как ее вытаскивали из возка и как вопила она о купеческом своем звании. — Неужто жив? Слава те господи! Одним грехом, выходит, менее…
— Да что ты всё про грехи заладила, нешто я тебе поп? Жив, жив, и типун у него на языке не вскочил, у окаянного! На всю Москву про тамбовскую красавицу растрезвонил, что тебе зазвонный колокол, трень-трень-трень!
Передразнить колокол ей всё же не удалось.
— И вот что из этого получилось, — продолжала купчиха. — Узнала вся Москва, что привез-таки Васенька себе суженую из Тамбова, и в дороге был поранен, и раненый с ней повенчался, а потом сделалось ему вовсе плохо… И что соборовали уж его, а она, тамбовская его женушка, у смертного его одра поклялась, что примет постриг, и собрала я ее быстро да тайно, и поехала она в Переяславский уезд, в Александровскую слободу, в Успенскую обитель…