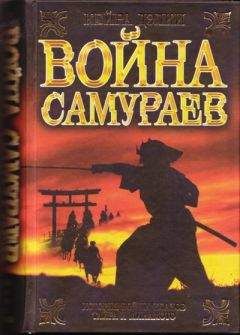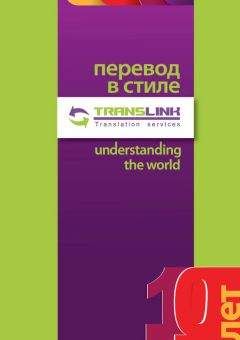Мунэмори просчитался, открывшись Го-Сиракаве в намерении бежать из столицы, если вторжения будет не миновать. го-Сиракава понимал, что, останься он с Тайра, его снова свя-чут по рукам и ногам, и потому к прибытию посланца от Минамото подготовил свой собственный план — такой, о котором не сказал никому, даже дамам из свиты.
Так же, как много лет назад, для первого побега из дворца, Го-Сиракава переоделся в простое платье и с единственным слугой выскользнул из усадьбы одним из потайных коридоров, выводящим на север. Под покровом ночи они направились в горы, к монастырю Курамадэра.
Однако в пути по извилистым горным тропам одна мысль не давала Го-Сиракаве покоя. Несколько дней назад в переписке с ним Ёритомо обронил пугающие слова. Среди прочего в послании говорилось:
«Победа близка, как никогда. Мы ежедневно возносим благодарения Хатиману, что вернул нашему клану удачу. Я признателен также и моему советнику, который каждую ночь шепчет мне на ухо. Его вы хорошо знаете, некогда называли братом. С монаршим и божественным покровительством можем ли мы протрать?»
«Син-ин — вот кто ему наушничает, — подумал Го-Сиракава, чувствуя, как кровь стынет в жилах. — А единственное, чего хотел мой покойный братец, — это хаос, а не победа. Надо бы заняться им. И чем скорее, тем лучше».
После вестей об исчезновении Го-Сиракавы, который, как сочли Тайра, поспешил примкнуть к Минамото, приготовления в Рокухаре стали еще более спешными. В ночь перед отъездом никто не спал, все сундуки и коробки заполнили ценностями, хотя многое пришлось оставить.
В час Зайца[72], перед самым рассветом, в Рокухару прибыл императорский походный паланкин. Кэнрэймон-ин помогла маленькому Антоку забраться в него, а потом, пройдя сквозь занавеси, поднялась сама и расположилась среди подушек. С ними в паланкин были положены два ларца — маленький, содержащий священную яшму, и побольше, где покоилось зерцало. Наконец, стражи поместили туда священный меч, Кусанаги.
Кэнрэймон-ин невольно отпрянула от него, зато юный Антоку потянулся к мечу и, схватив за искусной работы ножны из шагреневой кожи, отделанной золотом, втащил себе на колени. Императрица с замиранием сердца смотрела, как мальчик пытливо крутит и крутит меч в ножнах. И хотя даже ей, матери, не позволялось журить императора, она сказала:
— Ан-тян, будь с ним очень осторожен. Это вещь большой святости.
— Знаю, — спокойно ответил Антоку. — Обаасан мне часто про него рассказывала.
— Ну конечно, — сказала Кэнрэймон-ин, гадая, какими сказками кормила ее мать маленького государя.
— Нынче ночью мне приснился сон, — продолжил мальчик. — И как раз о мече. Мне снилось, будто я машу им, как стражник, — вжик-вжик! — Антоку рассек воздух ладошкой. — Вот так и скосил всех Минамото до одного, словно траву. А потом, во сне, я велел Кусанаги поднять сильнющий ветер и унести их прочь, но тут они обернулись шершнями и снова полетели на меня. Пришлось прыгнуть в воду, чтобы от них спастись.
— Понятно, — промолвила Кэнрэймон-ин. — Очень… интересный сон, Ан-тян.
«А что, если он сумеет? — подумала вдруг она, и в сердце появилась смутная надежда. — В конце концов, меч должен покоряться императорам. Вдруг мой сынок еще сможет нас спасти?»
— Только обаасан говорит, что мне нельзя его трогать, — сказал Антоку. — Она говорит, что меч этот — моего дедушки, Царя-Дракона. Слишком долго он был у людей. Вот почему, если взмахнуть им сейчас, случатся одни беды. Так она сказала.
Кэнрэймон-ин вздохнула со смешанным чувством разочарования и облегчения. Ей стало любопытно, все ли Антоку запомнил так, как учила Нии-но-Ама. Если да, значит, мать слукавила, когда она, Кэнрэймон-ин, поведала ей свою тайну. «В эти неспокойные времена ни на кого нельзя целиком положиться, даже на самых близких».
Носильщики подошли к паланкину и расположились у шестов, по трое на каждый. Затем, хором крякнув «хэй-я!», они вскинули шесты на плечо. Кэнрэймон-ин и Антоку только слегка тряхнуло, и паланкин тронулся, тихо покачиваясь в такт шагам носильщиков.
Когда они вышли за ворота, прочь от факелов и светильников усадьбы, в паланкине стало темно. Антоку повалился на подушки, засыпая с Кусанаги в обнимку. Кэнрэймон-ин выглянула сквозь щель в занавесях. Небо на востоке слегка посветлело, но Небесная река еще сияла, хотя и тусклее. Холодная луна под ней клонилась к закату. Вдалеке запели первые петухи, приветствуя солнце. Рядом, на улицах Хэйан-Кё, слышался плач простых горожан, наблюдающих скорбный отьезд императорского поезда.
«Не тот сегодня день, чтобы приветствовать солнце, — подумала Кэнрэймон-ин. — Отныне все должно погрузиться во тьму. Пусть Аматэрасу вернется в свой грот, пока Антоку не позволят выманить ее оттуда священным зерцалом».
В этот миг в ноздри ударил запах горящего дерева, и Кэнрэймон-ин резко села, потревожив Антоку.
— Что там, мама-тян?
Она высунулась за занавеси и увидела, как кровлю только что покинутой ими усадьбы лижет пламя.
— Они жгут Рокухару, — печально произнесла Кэнрэймон-ин. — Они решили сжечь все особняки Тайра — Нисихатидзё, Икэ, Комацу, — чтобы Минамото было нечего грабить и осквернять, заняв город.
Кэнрэймон-ин еще ненадолго задержалась снаружи, глядя, как дом, где прошли ее счастливые детские годы, сад, где она играла, покои, где училась музыке и письму, комната, где она появилась на свет и сама дала жизнь, — все исчезало, объятое дымом, растворяясь в стылой заре.
А ручей все течет —
Ничто не остается неизменным.
Мир — лишь иллюзия.
Слезы застилали глаза, и Кэнрэймон-ин втянула голову назад в паланкин.
— Почему ты плачешь, мама-тян? — Антоку подполз к ней и обнял ручонками за шею.
Кэнрэймон-ин не могла ответить. Она уткнулась в широкие отвороты рукавов и долго сидела так, пока они совсем не вымокли.
— Ты думаешь, мы сможем начать здесь все заново? — спросил Корэмори. Его глаза были еще красны от слез по семье, которую пришлось оставить в Хэйан-Кё.
— Едва ли, — ответил Мунэмори, оглядывая то, что осталось от некогда столичной Фукухары. Они прибыли сюда ближе к вечеру двадцать пятого дня седьмой луны. Нынешняя Фукухара была даже унылее той, что Тайра покинули почти три года назад. Чертог звенящих ручьев, павильон Любования снегом, дворец Тростниковая кровля — все поросло быльем и вьюнками да вдобавок было разграблено местными жителями.