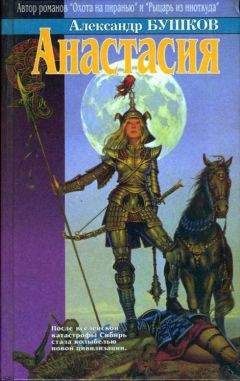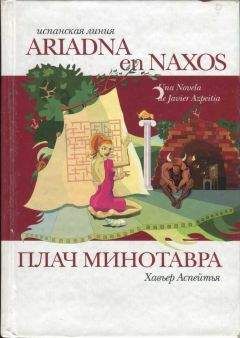— Мужики! — взвился вдруг колышущийся Тютюнин. — Вот вы меня вечно по мордам, вы меня — за дешевку, а я… Ну что я? Меня из техникума за любовь выперли, да и терпеть я не мог в задницу коровам глядеть… Ну а если не умею я больше ничего, если ни на что не способен? Вот и пошел по профсоюзной линии. Я–то хоть дерьмо безвредное, а вы — опаснее, вы вроде бы при деле… (Леня полез из–за стола, но Панарин крепко, держал его за локоть.) А я когда–то ведь романсы петь умел! — Он выхватил у кого–то гитару и в самом деле довольно сносно заиграл–запел:
Кавалергарда век недолог,
но потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
и где–то слышен сабель звон…
Он вдруг грохнул об пол гитару, упал на стол и заплакал. Направлявшиеся было к нему со сжатыми кулаками отодвинулись, смущенно переглядываясь.
— А песенка–то про нас, — сказал кто–то.
— Да все оно про нас. Если покопаться как следует, выяснится, что и Библия про нас, и «Одиссея», и «Гильгамеш»…
— Ты слушай сюда. — Леня Шамбор стиснул плечо Панарина. — Не такая уж редкая штука, когда человек перерождает в лучшую сторону свою паршивую дотоле душонку. Иногда под влиянием женщины — были примеры. Иногда в силу того, что открывает в себе талант писателя, художника, музыканта. Примеров тоже предостаточно.
— Ага, — ехидно сказал Панарин. — Рембо, к примеру, или Вийон, или Гамсун.
— Не передергивай, я не о том… Ну, а наша профессия — смогла она заставить кого–то из нас переродиться в лучшую сторону? Нет, выстрелю в морду любому, кто скажет, что мы работаем зря или выбрали не то ремесло. Но что–то неладно, все не так, ребята… Может быть, следует оценивать профессии с точки зрения того, насколько они способны заставить человека стать душевно чище? Я понимаю, что основное зависит от самого человека, и все же? Все же? Неладно что–то в президентском королевстве…
— Не знаю, — сказал Панарин. — Может быть, ты прав, а может, чушь собачью порешь.
— Ты не хочешь говорить на эту тему.
— А ты? — Панарин приблизил к нему лицо. — Ты протрезвеешь и все забудешь, это все всплывает в нас по пьяной лавочке — потому что слишком много вопросов, слишком серьезные они и мучительные…
— Но должны же где–то быть все ответы на все вопросы?
— А вот те шиш, — сказал Панарин. — Нету такого места. Если правда, что счастье — это вечная погоня за счастьем, то почему не может быть того же самого со смыслом жизни?
— А вот тебе теперь шиш. Это — не ответ, а бегство от ответа…
Тютюнин ожил:
Проходит жизнь, проходит жизнь,
как ветерок по полю ржи.
Проходит явь, проходит сон,
любовь проходит, проходит все…
— Вот смотри, — сказал Леня Шамбор. — Вот тебе и застегнутый на все пуговицы предместкома, которого мы били что ни суббота. А расстегнулся — и вот оно… А что в нас? Что? Но мы ведь все наутро загоним на самое донышко, верно, Тим?
— Верно, — сказал Панарин. — Наливай, что ли.
Зал грохотал и гудел, метались цветные пятна, на экране телевизора Президент Всей Науки, судя по всему, учил Канта основам философии, бешеные ритмы заставляли стены вибрировать, плясали у бассейна пьяные механики с полуголыми лаборантками, кто–то рухнул, Коля Крымов сползал под стол, волоча за собой скатерть, Пастраго гадал по ладони притихшей, почти трезвой Зоечке, и каждый вопил, что приходило на пьяный ум. Шабаш раскрутился, как извлеченная из будильника пружина.
Нынче все срока закончены,
а у лагерных ворот,
что крест–накрест заколочены,
надпись: «Все ушли на фронт»…
И в лицо плеснула
мне морская соль,
это мой кораблик,
это я — Ассоль…
В зал вошла Клементина. Меньше всего Панарину хотелось видеть именно ее, именно здесь, и именно сейчас. Ежась от жгучего стыда, он непроизвольно пригнулся, но в лопатки ему уперлось что–то широкое — это Пастраго, не отрывая взгляда от Зоечки, другой рукой заставлял Панарина сидеть прямо.
— Ты что, дьявол, что ли? — севшим голосом спросил Панарин и встал, подброшенный хлестнувшим его взглядом, побрел к выходу, опустив глаза.
— Ты ко мне? — глупо спросил он, как будто сидел в кабинете.
— Ага, — кивнула Клементина. — Пошли?
Панарин обреченно побрел за ней, натыкаясь на черепах.
На улице моросил мелкий занудливый дождик, в прорехах туч колюче поблескивали звезды.
— Сюда, что ли, — сказал Панарин, открыв перед Клементиной дверцу чьей–то машины.
Они сели на передние сиденья. Света Панарин зажигать не стал. Уютно пахло бензином и прохладным железом.
— Скучно, — сказала Клементина. — Просто невыносимо.
— А проживи–ка ты здесь год. Или десять. Ты на меня, часом, не обижаешься?
— В общем, не очень. Сама дура, плохо защищалась. Говорят, ты там совершил что–то ужасно героическое, сажал охваченную пламенем машину?
— Еще раз собьешься на ваши штампы — получишь по уху, — пообещал Панарин. — По этому прелестному ушку.
— Пьян?
— В плепорцию.
— Спасения у меня искать будешь?
— Это мы запросто.
— Ну, ну! — Клементина отбросила его руки. — Слушай, почему вы так боитесь себя?
— Это мы–то?
— Это вы–то, — передразнила Клементина, — господа альбатросы, кто ж еще? Спрятались за своими ритуалами, полетами, формой, запоями, фольклором. И усердно внушаете себе, что прячетесь от полного гнуси окружающего мира. От себя вы прячетесь, и пока что не без успеха.
— Знаешь, там сидит такой бородатый хмырь — профессор Пастраго. Вот с ним бы тебе и побеседовать, явно родственные души.
— Подождет, мне с тобой интереснее. — Клементина повернула к нему лицо, удобно умостив затылок на вогнутом подголовнике. — Бравый альбатрос лишил невинности глупенькую кису… А любопытно, почему вы считаете, будто, взяв женщину, получаете право играть ею, как вещью? Может, как раз она это право получает?
— Ну, это старая песня.
— «Одиссея» тоже старая, а ее читают.
«Господи, — подумал Панарин, — ну не знаю я, что говорить и как держаться… Хоть бы ругала меня, что ли, тюрьмой грозила — а она, как назло, умная и загадочная…»
— Поди ты к черту, — сказал Панарин. — Я пьян, ясно тебе? Или не барахтайся, или иди спать.
Клементина расхохоталась — искренне, без наигрыша. Панарин сердито открыл бардачок. Он так и не вспомнил, чья это машина, но чутье не подвело — там оказалась бутылка чего–то импортного с завинчивающейся пробкой. Стал открывать, порезал палец, но открыл.
— Хватит, дай–ка сюда. — Клементина отобрала у него бутылку. Никогда не пила из горлышка, ну да… — Тим, ты меня боишься?
— Что?
— А разве нет? Ты начал проявлять вполне человеческие чувства. Мечешься вот. Мимоходом совратил глупую девчонку, а теперь мучительно соображаешь, чего от нее ждать. Успокойся. Нечего от нее ждать. Сейчас пойду в ваш кабак и буду сидеть, пока меня не подцепят. Хочешь?