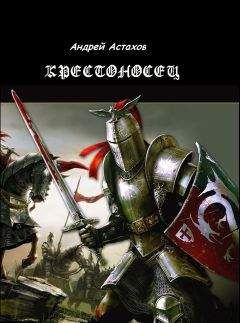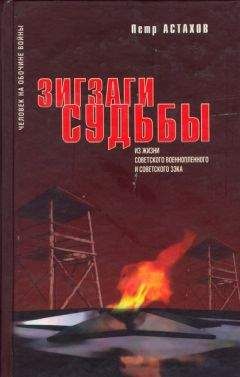— У тебя еще остается возможность выбрать, юноша. Твой выбор решит все.
— Я уже выбрал.
— Домино? Она на нашей стороне. Такова ее судьба, изменить Предназначение никто не в силах. Даже ты. Не забывай об этом.
— Я не позволю забрать ее у меня.
Белая усмехается.
— Однако ты сам только что велел ей уйти, — отвечает она.
— Это не Домино. Это…
— …ее будущее, — перебивает белая. — То, чем она станет однажды. Верно, Эвальд. Но сейчас мы говорим о тебе, а не о ней. Не страшно взглянуть в будущее?
— Пустая затея. Тебе меня не напугать.
— Я вижу три дороги, открытые для тебя. Первая давно определена. Ты проживешь долгую жизнь, — говорит белая женщина с невыразимо страшной усмешкой, — и умрешь глубоким стариком, пресыщенным жизнью и окруженным почетом. Простая жизнь простого человека. Так живут тысячи и умирают тысячи. Но стоит ли так умирать? Может лучше отправиться дорогой войны, вспыхнуть, как яркая звезда, и уйти молодым? Или обмануть смерть и встать на путь Вечности? Все в твоих руках… фламеньер.
— Смерть не обманешь.
— Это верно, — глаза белой вспыхивают искрами. — Она всегда права. И последнее слово всегда за ней.
— Тогда к чему этот разговор? Просто так, языком почесать?
— Я всего лишь напомнила тебе о своем существовании.
— Убирайся!
— Твое счастье, что высшие силы покровительствуют тебе, — отвечает белая. Ее глаза вспыхивают алым пламенем, и все во мне застывает от темного животного ужаса. — Пока покровительствуют. Помни мои слова…
— Эй ты, вставай!
Толчок в плечо. Ночная темнота складывается в нависшую надо мной фигуру. Я слышу лязг металла и ощущаю крепкий запах кожи, мокрой шерсти и пота. Это тюремщик, надзиратель за каторжниками, приписанными к шахте.
— Встать!
Встаю не без усилия — ставшая за последние недели привычной ноющая боль в пояснице сразу напоминает о себе, пронзает, как забитый в крестец раскаленный гвоздь. Всовываю ноги в уродливые войлочные чуни, надеваю куртку. Бессмысленно спрашивать, какого хрена меня подняли среди ночи — надсмотрщик не ответит. Хотя я ему почти благодарен за то, что разбудил меня. От виденного сна до сих пор по коже гуляют мурашки.
— Руки! — негромко, чтобы не разбудить спящих, командует надсмотрщик.
Я протягиваю руки, и стражник ловко надевает на меня «браслеты». Значит, не на работу. Тогда куда?
— Пошли!
На улице морозно, и такой чистый, такой сладостный после спертой удушливой вони каторжного барака ледяной воздух, ворвавшись в легкие, заставляет меня закашляться. В небе тесно от звезд, и луна полная. Красиво. Надсмотрщик вынимает из поставца у дверей коптящий факел, приглашающе тычет меня рукоятью плети в спину. Мол, давай, шевели ногами.
От каторжного барака до железорудной шахты «Уэстанмеринг» минут пять неторопливой ходьбы по извилистой, петляющей между кучами выброшенной породы тропе. Я шел по скрипящему снегу, дрожа от холода, и думал о своем сне. За последние три недели мне часто снились кошмары, но такого скверного сна я не видел никогда. Конечно, этот сон к худу. Все, что со мной происходит, все к худу. Хотя…
Если это пустое видение, обычный ночной кошмар, стоит ли грузиться из-за него? Если же вещий сон, предупреждение от темных сил, у которых я встал на пути в этой реальности, есть повод для оптимизма — враг все еще не списал меня со счетов. Пытается завладеть моей душой, воздействовать на меня. Зачем?
Мне вдруг вспомнилось стихотворение Сергея Калугина, на которое я случайно наткнулся в Интернете, и которое меня поразило своим трагизмом и своей обреченностью. Каждое его слово легло мне на сердце. Я даже собирался положить его на музыку, но потом оставил эту идею. Может, эти стихи не про меня, но… Близко так, до щеми в сердце:
Удары сердца твердят мне, что я не убит.
Сквозь обожжённые веки я вижу рассвет.
Я открываю глаза — надо мною стоит
Великий ужас, которому имени нет.
Они пришли как лавина, как чёрный поток,
Они нас просто смели и втоптали нас в грязь,
Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок,
Они разрушили всё. Они убили всех нас…
И можно тихо сползти по горелой стерне,
И у реки, срезав лодку, пытаться бежать,
И быть единственным выжившим в этой войне,
Но я плюю им в лицо, я говорю себе: «Встать!»…
Я вижу тень, вижу пепел и мёртвый гранит,
Я вижу то, что здесь нечего больше беречь,
Но я опять поднимаю изрубленный щит,
И вынимаю из ножен свой бессмысленный меч…
Я знаю то, что со мной в этот день не умрёт:
Нет ни единой возможности их победить,
Но у них нету права увидеть восход,
У них вообще нет права на то, чтобы жить!
И я трублю в свой расколотый рог боевой,
Я поднимаю в атаку погибшую рать,
Я кричу им: «Вперёд!», я кричу им: «За мной!».
Раз не осталось живых, значит — мёртвые, встать!
Невольно, дрожащими губами, я начал читать эти стихи. Надсмотрщик услышал.
— Эй, что ты там бормочешь? — буркнул он.
— Молюсь, — прохрипел я, не оборачиваясь.
Еще через пару минут мы подошли к резиденции констебля рудника, огромному двухэтажному срубу с окошками-бойницами. Надсмотрщик отворил дверь, втолкнул меня внутрь. Провел в просторный пустой зал, слабо освещенный полудюжиной масляных фонарей, развешанных на подпирающих стропила столбах и горящим в камине пламенем. У камина стоял человек, спиной ко входу, заложив руки за спину.
— Снимите с него наручники, — не оборачиваясь, скомандовал человек. — И оставьте нас вдвоем.
Надсмотрщик быстро выполнил приказ и выскользнул в дверь. Неизвестный все же соизволил обернуться. Я вздрогнул: лицо человека скрывал черный палаческий колпак с прорезями для глаз А потом неизвестный заговорил.
— Вы плохо выглядите, — сказал он, не меняя позы. — Болеете?
— Нет, — ответил я. — Я здоров.
— Я так не думаю. — Он шагнул ко мне. — Сегодня, кажется, ровно месяц, как вы в Хольдхейме?
— Я не считал дни. Наверное, да.
— Что-нибудь хотите мне сказать?
— Кто вы такой?
— Друг. — Он помолчал. — И все-таки, мне не нравится ваш вид. Вы знаете, что у вас появилась седина?
— Слушайте, давайте по существу. Какого черта…
— Я читал ваше дело, — перебил он. — Знаете, что там написано в примечаниях? «Особо опасный мятежник, не заслуживающий снисхождения. Подлежит особо строгому обращению».