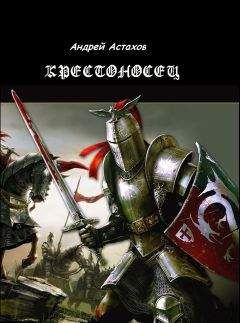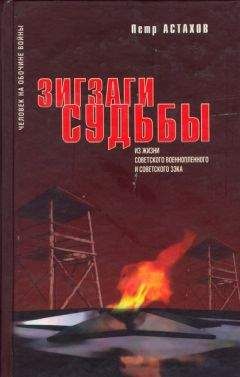— Подумайте хорошо, — добавил черный капюшон все тем же зловещим шепотом, — мы знаем, что вам есть ради чего жить. У вас ведь есть жена, не так ли?
— Слушай, ты, если с ней что-нибудь случится…
— Это не я сказал, это вы сами, — ответил мерзавец. — Итак?
— НЕТ!
Они не ожидали этого ответа. Все трое. Их будто гром ударил. Я отдал бы все сокровища мира за возможность увидеть их лица. Насладиться их шоком.
— Нет! — повторил я, стерев рукавом со лба обильно выступивший пот. — Никогда!
— Вы… шевалье, вы хорошо подумали? — Черный капюшон все же овладел собой.
— Да! — Мне хотелось плюнуть ему в рожу, но я не мог: рот пересох от страха. Дрожь наполнила тело, ноги ослабли, сердце начало биться с перебоями и поползло к горлу, будто собиралось вылезти из груди. — Да!
Черный вырвал у меня из пальцев хартию, медленно свернул в трубку и спрятал в кошель.
— Хорошо, шевалье, — сказал он, и мне послышалось странное, непонятное и неподобающее ситуации одобрение в его голосе. — Ступайте, и да пребудет с вами Матерь!
Они ушли неслышно, как тени, в боковую дверь, оставив меня одного. А потом появился надсмотрщик.
— Живой? На-ка! — Он протянул мне флягу. Я взял ее, поднес к губам. Во фляге был дешевый ром, вроде того пойла, что нам выдавали по воскресеньям. Но сейчас эта бурда с резким запахом сивухи показалась мне райским напитком. Я сделал несколько жадных глотков, закашлялся, рукавом вытер рот. Надзиратель одной рукой выхватил у меня фляжку, другой похлопал по спине.
— Ну-ну! — буркнул он. — Полегчало?
— Немного.
— Тогда подставляй руки, — надзиратель приложился к фляжке, крякнул и зевнул. — Из-за тебя, щенка, полночи не спал…
* * *
В Хольдхейме я часто думаю над тем, что жизнь человека, имевшего несчастье попасть сюда, измеряется не в часах или днях.
Она измеряется в вагонетках с рудой. Десять вагонеток руды в день на троих — такова цена жизни. Или, точнее, цена очередной, на один день, отсрочки от мучений и смерти.
Битва за новый день начинается утром. Еще до рассвета, мы все, несколько сотен заключенных отряда, приписанного к руднику «Уэстанмеринг», идем в шахту под охраной сонных надзирателей и спускаемся под землю в ржавой скрипящей хрупкой клети группами по шесть человек. Оказываемся в рудничном дворе — огромной темной пещере, освещенной только факелами и тусклыми огоньками рудничных ламп. Здесь стражники сковывают нас одной цепью по трое. После этого наверху бьет сигнальный колокол, мы берем из шкафов инструменты, и нас под охраной разводят в жаркие, едва освещенные рудничными лампами тесные туннели работать. Наполнять вагонетки.
Рудник «Уэстанмеринг» древний. Ганель говорит, еще эльфы добывали тут железо. Может быть, мне от этого не легче. Весь рудник — это гигантский лабиринт природных и рукотворных пещер и тоннелей, где воет ледяной ветер, а в закутках ужасно жарко. Так жарко, что в минуты покрываешься потом, даже не работая. Тебя окружают тьма, мглистый спертый воздух, пропахший плесенью и окалиной, твердый серый камень с проплешинами рыжей железной руды, мостки, леса и крепеж из неструганого дерева и ржавого железа, будто декорации огромного чудовищного театра абсурда. Рудник похож на гигантский муравейник, в котором копошатся сотни подневольных душ, кашляя и обливаясь потом, наполняя туннели стуком своих кирок, ломов и обушков, криками и ругательствами. И кругом вода — она стекает со сводов, струится по стенам, каплет на голову, заставляя ежиться и вздрагивать, натекает на полу лужами, сливается в шумный поток, бешено несущийся в глубине пещеры, под нами — мы слышим этот рев каждую секунду. Может быть там, на дне этого потока, нашли успокоение те непокорные, те жертвы императорского гнева, о которых говорил мне ночью черный капюшон. Но я пока жив. И я наполняю вагонетки.
Каждая из вагонеток — железный ящик на колесах, метра полтора в длину и по метру в высоту и ширину. Не знаю точно, сколько руды в него входит. Думаю, не меньше тонны. Вагонетку тянет по рельсам, проложенным по туннелю, пара смирных печальных зашоренных пони, которых ведет за повод заключенный — на местном жаргоне «откатчик». Пока мы наполняем вагонетку рудой, этот самый откатчик сидит где-нибудь рядом и наблюдает за нами, иногда прикалывается, отпуская в наш адрес какие-нибудь плоские и большей частью не смешные шуточки. Поначалу, конечно, я злился, что эта козлина не работает и еще издевается над своими же товарищами по несчастью, но потом привык. Хрен с ним, пусть подкалывает.
Ганель изменился. В первые дни он говорил много и возбужденно — о том, что это ошибка, что нас обязательно уберут с этой работы, что мы не шваль, предназначенная для черной работы и прочее, — теперь больше не болтает. Он сильно похудел и осунулся, в глазах у него тоска, и он все чаще говорит о смерти. Я вижу, что он очень устал, но помочь ему не в моих силах — я сам еле таскаю ноги. Третьим в нашей связке раньше был Локс, но две недели назад его заменили на новенького — молодого виссинга по имени Зерам Ратберт. Парень рослый, крепкий, жилистый, длиннорукий, весь покрытый затейливыми, прекрасно выполненными татуировками — руки от плеч до кисти обвивают ветви дикого винограда, плюща и колючки терна, на груди какие-то звезды, изображения солнца, на спине звери и птицы. Ратберт молод, может, чуть постарше меня, но волосы и заплетенная в косу борода у него совсем седые, как у глубокого старика. Свою шевелюру он убирает под грязную бандану. Я не знаю, за что его упекли сюда, на рудник, а сам он ничего не рассказывает. Парень работает очень хорошо, он в одиночку делает больше, чем мы на пару с Ганелем, и при этом всеми силами пытается показать нам, что презирает имперцев и общаться с нами не намерен. По сути, одного немого в нашем трио сменил другой. Так что работаем мы молча. Откалываем руду кирками, лопатами засыпаем в вагонетку. Обычно до завтрака удается засыпать пять вагонеток, иногда шесть. Потом раздаются удары колокола, и три тюремщика приносят большую медную флягу с капустной или луковой похлебкой и корзину с хлебом.
В этот раз принесли не похлебку. Серый разваренный горох без малейших признаков мяса или жира выглядит и пахнет очень неаппетитно, а главное — успел остыть, пока его сюда тащили. Наверное, оконная замазка и та вкуснее этого месива. И я, ковырнув его ложкой, понимаю, что съесть это не смогу.
— Возьми, — говорю я и подталкиваю свою миску Ганелю.
— А ты? — Профессор смотрит на меня с недоумением.
— Я не хочу.
Ганель слишком долго думает. Ратберт, встретившись со мной глазами, забирает миску, вываливает ее содержимое в свою и начинает жадно есть гороховое пюре, сопя и чавкая. Покончив с пюре, он вылизывает ложку и, глянув на меня с совершенным равнодушием, растягивается во весь рост на куче породы, заложив ручищи за голову. Я пытаюсь жевать оставшуюся у меня краюху — хлеб кислый и воняет какими-то грязными тряпками, точно муку для него мололи вместе с дерюжными мешками, в которых она хранилась. Отпущенные на обед полчаса проносятся слишком быстро — снова бьет колокол, и мы снова начинаем рубить руду, наполняя вагонетки. В любой момент может появиться мастер рудника или старший штейгер, или еще какой-нибудь начальник: кроме того по туннелям прохаживаются вооруженные хлыстами и крепкими дубинками надсмотрщики, которые следят, чтобы каторжники работали как положено.