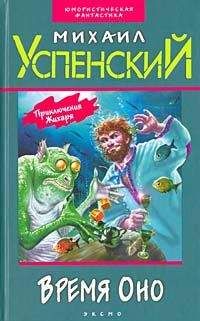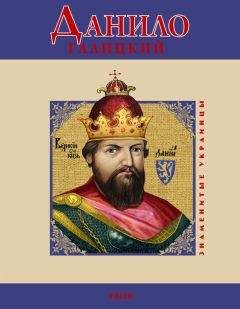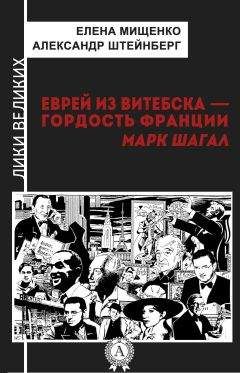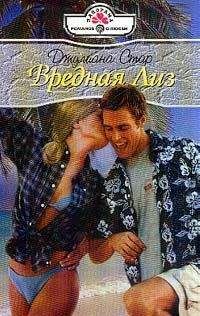– Это не я их в яму посадил, – продолжал меж тем Щур, глядя на возню под ногами. – Это ты их в яму посадил. Им бы цены в другое время не было, Ваське да Авдюшке, а ты из людей псов сотворил, ну и получай. Ты русского человека честь в других землях велишь высоко держать, а здесь под ноги себе мечешь. Говорите: мужик-де русский ленив, а немчины вам поддакивают. Да может ли мужик вас прокормить, коли вы приучены в три горла жрать? Жаль, не смог я тогда все племя ваше порохом взорвать – свежее бы на Руси стало! Одним обедом твоим две деревни накормить можно – кто ты такой, чтобы их объедать? Может, ты полки водишь, врагов державы повергаешь? Нету того. Может, ты, как царь Соломон, суд праведный творишь? И того нету. Так на кой ты нам нужен?
Щур подошел к карете и залез на облучок.
– Ныне с Москвы схожу, – сказал он. – А ведь вернусь. И не один вернусь – слыхал же, что Степан Тимофеевич в Астрахани вашему племени устроил? Как бы тебе в эту яму самому не пришлось лезть – прятаться…
Царь как стоял, так и стоял. А что сделаешь? Крикнуть – голоса нет…
– Ин прощевай, Алексей Михайлович! И помни накрепко эту яму! Помни, что русский человек до времени терпит! Не быть крепку царству, стояшу на доносе и ябеде!
Он хлестанул коней, свистнул и покатил вон из Москвы, во все горло орал при этом: «По государеву делу!» – чтобы караульные стрельцы не чинили препятствий. Докатит небось до рогаток, выберет коня получше (а выбирать трудно, кони-то царские!), да и помчится к Степану Тимофеичу. Может, сложит голову в бою либо на плахе, а может, долго будет колобродить по Руси, пугать боярское племя…
Факел, брошенный Щуром, догорел. Наступила темнота. Соколы в яме притихли. Вышла из-за тучи луна, и увидел самодержец, что стоит он на пустыре один-одинешенек. И вот тогда-то он закричал не своим голосом. Из домов никто не вышел, думали, просто так – режут кого-нибудь. Могли и вправду подойти тати и зарезать – был бы тогда еще один царь-мученик, невинно убиенный…
На царское счастье, выбрел к пустырю безместный поп Моисеище. Попа Моисеища только что с великими трудами выбили из кружала за святотатственную попытку пропить наперсный крест. Поп шел злой и алчущий злость эту сорвать на ближнем своем. Самым ближним и оказался Алексей Михайлович.
Другой бы на месте попа Моисеища спросил у одинокого прохожего: «А по морде хочешь?» Но поп Моисеище и в самом непотребном виде твердо помнил, что на него возложен сан. Поэтому он не спросил, а вопросил:
– А не дерзнуть ли тя по лику, сыне?
Когда же присмотрелся, понял: не дерзнуть. В молодости поп Моисеище принимал участие во многочисленных диспутах о вере, покуда диспуты эти еще допускались. Алексей же Михайлович в молодости был до таковых диспутов великий охотник. Моисеище доподлинно признал государя и повалился ему в ноги. Государь продолжал кричать – тоненько-тоненько уже, и поп сообразил, что с ним неладно. А сообразив, подхватил царя в охапку, как малое дитя, и побежал в сторону Кремля. Набегавших стрельцов он отгонял громовым рычанием: «Слово и дело государево!»
В царских палатах уже всполошились. Алексей-то Михайлович ладил вернуться с золотом до рассвета, а не вышло. Так что навстречу Моисеищу бежала целая толпа челяди, а впереди всех дьяк Иван (Данило) Полянский. Он выхватил царя из объятий Моисеища, начал приводить в чувство, плакал горько и от сердца. Полянский пережил государя, и невдомек ему было, что тот однажды велел его «зарезати».
Придя в себя, царь первым делом приказал скакать к яме и казнить соколов на месте. Прискакали, и веревку бросили, а взять соколов не смогли: так противно было, даже кони стрелецкие шарахались. Соколы это заметили и стали разгонять стрельцов, швыряя в них всякой пакостью, что набилась в карманы и за пазуху. Поправил дело кат Ефимка, одыбавший малость после Авдея. Он на расстоянии мог стегать соколов кнутом, вот и погнал их по городу. И впервые услышал от горожан Ефимка добрые слова:
– Так, так, Ефимушко! Ожги его! Перепояшь! Любо! Ой, любо! Гони их, Ефимушко, подале, чтобы духу их не было!
Ефимушка гнал их, гнал, пока сил хватило. Куда потом подевались соколы – неведомо, да уже и неинтересно. Такие нигде не пропадут, жить будут, покуда не найдется добрый человек, не посадит их на законное их место – в помойную яму.
Про страшный этот случай велено было забыть. Поэтому ни в каких документах никаких следов не осталось. Алексей Михайлович, должно, помнил, оттого и помер рано…
Да еще помнил безместный поп Моисеище, коего поили по государеву указу во всех кабаках и кружалах за так. Говаривал поп Моисеище, надувшись винища:
– Гряду я это, братие, из кружала. Ошую и одесную – тьма воистину египетская. Смотрю – впереди свечение, как бы с Фавора исходящее… Гряду далее – и зрю рядом с мерзостью запустения миропомазанника нашего богоданного…
Но ему, понятное дело, не верили.