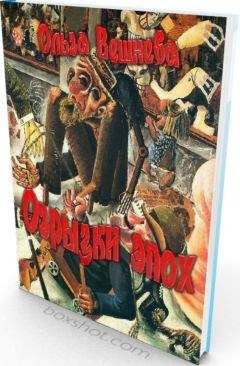— Кушать подано, Тихон, — Людмила отвесила мне легкую пощечину.
Она втащила Любоньку на стол и, схватив меня за голову, прижала губами к кровоточащей ране на шее девушки.
— Нет… нет… не могу, — сплюнув человеческую кровь, я отвернулся от шеи Любоньки и попытался вырваться.
Я задыхался от рыданий. Горячие слезы капали на розовую кожу, пропитанную ароматами резеды и жасмина.
— Знать, рано тебе, — сделала безжалостный вывод Людмила.
Любонька вздрогнула, когда вампирша впилась в ее рану. Ее глаза широко распахнулись. Она понимала, в кого мне суждено превратиться, но в ее последнем взгляде я видел нежность. Любонька не испытывала ко мне отвращения. Когда она умерла, в ее остекленевших глазах продолжала светиться любовь.
— Глянь, Лютик, чего мне под руку попалось, — измазанный кровью от носа до подбородка Фома помахал книгой в зеленом переплете. — Не чурайся, барчонок, — он улыбнулся мне. — Я крепко набил брюхо. Вошь можно придавить. Аж в огонь от жаркой кровушки бросает.
Разорвав когтями залепленную красными пятнами рубаху, он скинул ее и усмехнулся, любуясь своим рельефным торсом, будто выточенным из бело-розового мрамора.
— Что-то ты не хочешь умыть меня, — Фома понюхался с Людмилой, подставляя для вылизывания подбородок.
— Видишь, не до тебя мне, — она отвернулась. — Умойся в корыте.
— В корытах свиньи банничают, — когти Фомы прочертили глубокие борозды на ореховой столешнице. — Ужель, ты отныне почитаешь меня за свинью?
— Уйди, — разъяренно зашипела Людмила.
Левой рукой прижимая меня к стулу, она сделала резкий выпад. Ее челюсти сомкнулись в опасной близости от приплюснутого на кончике носа.
Слева раздалось тонкое хихиканье.
— Знать, не мил я тебе боле, — отступивший Фома постукивал когтями по кожаному поясу гусарских штанов. — Что ж, с барчонком возись, коли он полюбился тебе. А я докучать не стану. Зимы обожду.
— Примерь… ш-шежь… незанош-шену одежу, коршунок, — зашипела светловолосая вампирша, увешанная одеждой, снятой с жертв. Она подскочила к Фоме и, бросив на меня беглый взгляд, лизнула его подбородок. — Ш-шо же тебе красоту под кровавой коркою таить? Дай же-ж, я тебя ображу.
Фома с напускным отвращением позволил блондинке вылизать его лицо, а затем сам очистил от крови ее щеки и губы. Людмила едва сдерживала гнев.
— Хороша заноза! — Фома вдавил пальцы под ребра блондинки, заставив ее вздрогнуть от боли.
Насмешливо поглядывая на Людмилу, он надел белую косоворотку и зеленый верблюжий сюртук приказчика Ильи Кузьмича, надвинул на затылок его бордовый бархатный картуз.
— Как на тебя сш-шито, — обрадовалась блондинка.
— Вишь, до чего ты довела меня, Лютик. Как славно в былые годы я ляхов резал. А ныне с ляховским отродьем якшаюсь. А ведь, ядрена вошь, хороша Янка! Недаром, Ахтым за нее горой! — Фома сгреб Яну в объятия и потащил ее к двери.
Людмила молча скрипела зубами. Почувствовав тошноту, я со стоном наклонился, повис на ее руке. Она позволила мне опереться на стол. Меня стошнило в широкое блюдо для десерта. Переводя дыхание, я приподнял голову и увидел туманные силуэты удаляющихся вампиров.
— Прошу, пани, в барские покои, — ворковал Фома. — А хочешь, я прочту тебе стихи атаманшина барчонка? Он, кажись, ее стихами одурманил.
Фома открыл книгу с записями и стал читать почти по слогам:
— Загляни в паучий дом —
Пауки одни кругом.
Бегают довольные,
Веселятся вольные.
Ты откроешь в доме дверь —
Сразу разбегутся.
Это было самое раннее мое произведение, написанное в радужном детстве. Теперь я сам чувствовал себя мухой в паучьем доме, а не в черепаховом супе императора. Проходя в обнимку с хихикающей Яной мимо камина, Фома бросил сборник стихов в огонь. Волны пламени охватили раскрытую посредине книгу. С тающих черных страниц взлетели красные искорки и затухли в непроглядной тьме. Погружаясь в темноту, я подумал, что очнусь жаждущим крови чудовищем, живущим только для того, чтобы убивать…
Я проснулся от голода. Резкий вдох принес букет неприятных запахов: гари, плесени, пота, сырой глины и кислых щей. «На кухне уборку затеяли», — не открывая глаз, я потянулся на мягкой перине и замер в ожидании приглашения к столу.
В уши врезались громкие звуки. Сверху доносился треск, переходящий в гул. «Самовар поспел», — подумал я. — «Ишь, как уголья шкварчат». Слева слышалось постукивание, как будто маленькие ножки выбивали дробь. «Деревенские ребята играют в солдат. По саду маршируют». Справа лилось мелодичное шуршание пряжи и позвякивание спиц. «Жена приказчика села под окном вязать шаль из козьего пуха».
Самоварный гул стремительно приближался. Не понимая, что происходит, я открыл глаза и сел. Взору предстала широкая пещера, темно — коричневая с красными глинистыми разводами. Кипящий самовар оказался толстым рогатым жуком. Устрашающе гудели в полете его крылья свекольного цвета. Вместо мальчишек по полу маршировали черные муравьи. А роль жены приказчика исполнила серая в белых крапинках паучиха, штопавшая дыру в покрытой водяными капельками сети, раскинутой под потемневшим от влаги сводом пещеры.
Я вздрогнул и попятился к сложенному в уголке вороху одежды. Сердце ухнуло тяжело и гулко, словно главный колокол Сретенской церкви, расписным теремом высившейся на пригорке. Оно, будто порываясь выскочить из костяной клетки, заметалось в груди, а потом немного успокоилось, стало отстукивать непривычный замедленный ритм, производивший меньше шума, чем муравьиный марш. Мои глаза тщетно разыскивали источник света под облепленным короткими ледышками сводом. Я не сразу увязал способность видеть в полной темноте яркую цветную панораму, в которой можно было рассмотреть даже мельчайшие жемчужные крапинки на брюшке паучихи, и многократное усиление слуха с собственным перерождением.
В надежде пробудиться от кошмарного сна я ущипнул себя за уши. Голову пронзила нестерпимая боль. Я прыгнул на стену, с визгом описал круговое сальто, пройдясь по сталактитам высокого свода. Приземлился я на четвереньки, располосовав заскользившую под руками лисью шубу и прикусив язык.
Испуганно затаив дыхание, я слизал с удлинившихся клыков и проглотил капли крови. Новый виток голода смял пустой желудок. Похожие танталовы муки мне приходилось терпеть в рождественский сочельник. Мать запрещала притрагиваться к праздничным кушаньям до первой звезды.
Испуганно затаив дыхание, я слизал с удлинившихся клыков и проглотил капли крови, успевшие вытечь из мгновенно зажившего языка. На спуске по пищеводу солоноватые капли пробудили новый виток голода, и он будто смял мой пустой желудок. Похожие танталовы муки мне приходилось терпеть в рождественский сочельник. Мать запрещала притрагиваться к праздничным кушаньям до первой звезды, а украдкой подцепленная на палец кремовая розочка с тарталетки или отщипнутый кусочек жареной гусятины лишь ожесточали терзавший внутренности голод.