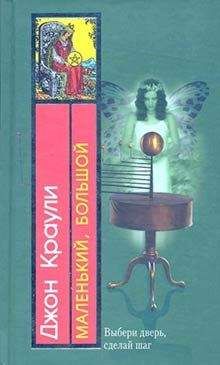— Папа…
— И что мы с самого начала повели себя неправильно, так как тебе пришлось хранить секрет и как бы прятаться от меня…
Нет! Нет, нет, нет.
— Честно, мне очень жаль, если ты чувствовал, что я за тобой шпионил, выведывал и все такое, но…
— Папа, папа, пожалуйста, послушай хоть секунду!
— Но если уж мы решили задавать друг другу самые обычные вопросы, то я хотел бы знать, что же тебе…
— Ничего мне не было известно! — Выкрик Оберона заставил Смоки встрепенуться и поднять глаза. Сын, с бешеным огнем во взоре, готовился то ли обличать, то ли исповедоваться.
— Что?
— Ничего мне не было известно! — Внезапно Оберон опустился перед Смоки на колени. Все его детство было поставлено с ног на голову, и ему захотелось залиться смехом умалишенного. — Ничего!
— Тогда почему же ты вечно скрывал?
— Что скрывал?
— То, что тебе было известно. Тайный дневник. И все эти таинственные намеки…
— Папа. Папа. Если мне было известно что-то, о чем ты не знал, пришла бы мне мысль, что старая модель движется, но все об этом молчат? А как насчет «Архитектуры загородных домов», про которую ты мне ничего не хотел объяснять?
— Я? Это ведь ты считал, что в ней разбираешься…
— Ладно, а как насчет Лайдак?
— Что насчет Лайлак?
— Что с ней случилось? Я говорю о дочери Софи. Почему никто мне не сказал? — Он схватил отца за руки. — Что с ней случилось? Куда она исчезла?
— Ну да, — повторил Смоки, раздраженный сверх всякой меры. — Куда она исчезла?
Они уставили друг на друга безумные глаза, в которых светились одни вопросы и никаких ответов, и в тот же миг все поняли. Смоки хлопнул себя по лбу:
— Но как ты мог думать, что я… что я… То есть разве не было сразу видно, что я не знаю…
— Ну, я ломал себе голову. Думал, вдруг ты притворяешься. Но не был уверен. Откуда взяться уверенности? У меня не было случая.
— Тогда почему ты…
— Не произноси этого. Не произноси: почему ты не спросил. Не надо.
— О боже, — рассмеялся Смоки. — Господи.
Оберон, тряся головой, снова опустился на пол.
— Весь этот труд, — сказал он. — Все усилия.
— Думаю, я выпью еще чуточку бренди, если ты сможешь дотянуться до бутылки. — Смоки пытался поймать свой пустой бокал, который куда-то закатился в темноте. Оберон налил ему и себе, и долгое время они сидели молча, обменивались взглядами и посмеивались, качая головой. — Нет, это что-то, — заметил Смоки. — А каково бы было, — добавил он, помолчав, — если бы никто из нас не был посвящен. Если бы мы, ты и я, отправились бы сейчас в комнату твоей матери… — Эта мысль заставила его рассмеяться. — И сказали бы: послушай…
— Не знаю, — проговорил Оберон. — Бьюсь об заклад…
— Да, — кивнул Смоки. — Да, я уверен.
Ему вспомнилось, как они с Доком много лет назад отправились на охотничью вылазку. В тот день Док, внук Вайолет, дал ему все же совет не слишком углубляться в некоторые предметы. Которые даны раз и навсегда и изменить ничего невозможно. И кто может нынче сказать, что было известно самому Доку, что за тайны он унес в могилу. В первый день после прибытия Смоки в Эджвуд двоюродная бабушка Клауд сказала: женщины глубже это чувствуют, но мужчины, вероятно, больше от этого страдают… Всю жизнь он изображал из себя профессионального хранителя секретов и немало в этом поднаторел. Не удивительно, что он обдурил Оберона, ведь он учился у мастеров, как хранить секреты, даже когда хранить нечего. И все же, внезапно подумал он, кое-какие секреты ему известны: хотя он не может сказать Оберону, что случилось с Лайлак, но он хранит в памяти некоторые факты, касающиеся ее и семейства Барнабл, и не собирается ими делиться даже с сыном. От этого он чувствовал себя виноватым. Лицом к лицу: ладно. И не это ли подозрение заставило Оберона потереть себе лоб, вновь уставившись в стакан?
Нет, Оберон думал о Сильвии и о диковинных указаниях матери, которые он должен был выполнить завтра в лесу за островом; о том, как она при появлении отца прижала палец к губам, призывая сына молчать. Указательным пальцем он провел по новым волоскам, которые недавно выросли почему-то у него между бровей, соединив их в одну линию.
— А знаешь, — сказал Смоки, — жаль, что ты сам вернулся.
— Да?
— Нет, я, конечно, не то хотел сказать… Я не жалею, просто у меня был план: если ты в ближайшее время не напишешь и не появишься, я отправлюсь на поиски.
— Правда?
— Угу. — Смоки рассмеялся. — Это была бы настоящая экспедиция. Я уже обдумывал, что взять в дорогу.
— Ну да. — Оберон ухмыльнулся от облегчения, что эта экспедиция не состоялась.
— Это было бы интересно. Вновь увидеть Город. — Смоки ненадолго погрузился в воспоминания. — А впрочем, я бы, наверное, заблудился.
— Вполне возможно. — Оберон улыбнулся отцу. — Но все равно спасибо, папа.
— Ну ладно. Ох, посмотри, как мы засиделись.
Обнимать самого себя
Оберон последовал за отцом по широкой передней лестнице. Ступени скрипели в привычные моменты и в привычных местах. Ночной дом был ему так же знаком, как дневной, так же полон подробностями, которые он бессознательно хранил в памяти.
Отец и сын расстались на углу коридора.
— Ну, доброго сна, — проговорил Смоки, и они немного постояли в лужице света, который лила свеча в руке Смоки. Не будь Оберон нагружен своими жалкими пакетами, а Смоки — свечой, они, возможно, обнялись бы, а может, и нет. — Найдешь свою комнату?
— А как же.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Оберон прошел привычные пятнадцать с половиной шагов, приложился боком к дурацкому комоду, о котором вечно забывал, протянул руку и нащупал стеклянную граненую ручку своей двери. Он не зажег свет, хотя знал, где лежат на ночном столике свеча и спички, как их найти и как зажечь спичку о неровную нижнюю поверхность стола. Запах (его собственный, холодный и слабый, но привычный, с примесью запаха близнецов Лили, которых временно размещали здесь) постоянно нашептывал ему о прошлом. Он замер, чуя носом кресло, где прошло много счастливых часов его детства, достаточно большое и мягкое, чтобы свернуться в нем с книгой или блокнотом, по соседству с неяркой лампой, освещавшей печенье и молоко или чай с тостами на столике. Он чуял и гардероб, через приоткрытые дверцы которого выбирались, бывало, наружу, чтобы его пугать, привидения и злодеи (Что сталось с этими фантомами, некогда столь знакомыми? Они исчахли от одиночества, не имея зрителей), узкую кровать с толстым покрывалом и двумя подушками. Чуть ли не с младенчества он требовал себе две подушки, хотя спал всегда на одной. Подушки манили, создавали впечатление роскоши. Все оставалось на месте. Запахи повисли на его душе подобно тяжелым цепям, вновь принятому на себя старому бремени.