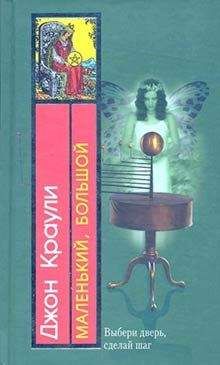А вот это как раз походило на реальную жизнь — на жизнь Оберона.
Не сюжет, но притча, история с «изюминкой» — и кульминационный момент в ней пройден. Фабулой была Сильвия, не загадочной, будоражащей интерес, но обильной и неисчерпаемой аллегорией или сказкой, которая сделалась основой его жизни. Иногда ему приходило в голову, что такой взгляд на вещи лишает Сильвию той яркой и неоспоримой реальности, какой она некогда обладала и, без сомнения, продолжала обладать и сейчас, где-то в другом месте; при этой мысли Оберон ощущал внезапный стыд или испуг, словно кто-то другой, или он сам, изрек о Сильвии постыдную клевету, но такое случалось все реже, а история, или притча, совершенствовалась, обретала все новые сложные грани; она даже становилась короче, пригодней для изложения, уже не столько повествовала о реальных событиях, сколько обосновывала, критически исследовала, объясняла жизнь Оберона — пусть даже все больше отклонялась от событий, в действительности с ним случившихся.
Несение факела, — называл это Джордж Маус, и Оберон, никогда прежде не слышавший это старинное выражение, с ним согласился, так как его факелом было не покаяние и не преклонение — его факелом была Сильвия. Оберон нес факел: ее. Иногда она пылала ярко, иногда тускнела; в ее свете он видел мир, хотя и не было такой тропы, которую он старался бы разглядеть. Он жил в Складной Спальне, помогал на Ферме; годы тянулись, неотличимые один от другого. Как застарелый калека, он, не всегда осознанно, отказывался от радостей жизни, считая, что они не предназначены для подобных ему: он включил себя в разряд тех, с кем ничего не случается.
В расцвете лет он страдал от странных расстройств. Он не мог не просыпаться с рассветом, исключая разве что самые темные зимние дни. В очертаниях предметов в комнате ему начали чудиться лица или, вернее, он не мог от них избавиться: злобные, умные или дурацкие, они подмигивали; изукрашенные жуткими гримасами или ранами, они выражали — и навязывали Оберону — чувства, которых сами не испытывали; они были одушевленными, но не живыми, и это внушало легкое отвращение. Помимо воли Оберон жалел едва заметный рисунок на потолке, с пустыми глазами (головки винтов) и торчавшей из разинутого керамического рта лампочкой. На занавесках в цветочек наблюдалась толпа, собрание, вернее, целых два: цветочный народ и народ фоновый, который окружал цветы и проглядывал между ними. Когда лиц набилось до отказа, Оберон, тайком от всех, посетил психиатра. Тот сказал, что он страдает не столь уж редким синдромом «человека-на-луне», и посоветовал чаще выходить на улицу. Правда, лечение, по его словам, должно было продлиться годы.
Годы.
Чаще выходить… Джордж, неизменный и разборчивый донжуан, с возрастом едва ли ставший менее удачливым, познакомил его со множеством женщин; в «Седьмом святом» нашлись и другие. Но к вопросу о призраках. Время от времени пара этих реальных женщин сворачивалась в одну (в тех случаях, когда их удавалось уговорить свернуться таким образом) и дарила ему грубое удовольствие — достаточно сильное, если ему удавалось сосредоточиться. Однако воображение — питаемое прочной, хотя и отчаянно тонкой, материей памяти — действовало с силой куда большей.
Он не хотел, чтобы так было; искренне верил, что не хочет. Оберон сознавал даже, в моменты большой ясности: происходящее с ним не происходило бы, не будь он таков, каков он есть; его беспомощность вызвана отнюдь не внешними событиями, а его порочной природой; вряд ли кто-то, кроме него, впал бы в ступор, после того как Сильвия легко коснулась его на ходу. Что же это за дурацкая устаревшая болезнь, ныне почти полностью изжитая, — Оберон временами злился, ощущая себя ее последней жертвой, изгнанной, из соображений гигиены, с общегородского пира, который не заканчивался, несмотря на упадок. Он желал, сильно желал быть способным последовать примеру Сильвии: сказать судьбе «пошла к черту» и сбежать. И он был на это способен, только мало старался; это тоже ему было известно, но что поделаешь: в нем засел изъян. Нисколько не утешала мысль, что именно благодаря своему изъяну, разладу с миром он находится в той Повести, принадлежность к которой уже не было смысла отрицать; что, возможно, Повесть и являлась тем самым изъяном, изъян и Повесть были едины; пребывание в Повести означало приспособленность к роли, которая тебе отведена, и неспособность ни к чему иному; вроде легкого косоглазия, из-за которого все время смотришь немного не в ту сторону, хотя окружающим (и частенько тебе самому) оно кажется не более чем внешним недостатком.
Оберон встал, недовольный тем, что его мысли пустились по старому кругу. Предстояла работа, достаточно работы; она имелась почти всегда, и Оберон был за это благодарен. Будь жив тот мягкий и любезный человек, которому Оберон принес свой первый сценарий (он умер от случайной передозировки), его поразило бы, сколько Оберон делает и как мало за это получает. Тогда жизнь была куда легче… Оберон плеснул себе чуть-чуть виски (джин был verboten[53], но от прежних приключений осталась неистребимая привычка — скорее слабость, чем зависимость) и обратился к почте, которую Фред принес из окраинной части города. Фред, старый советчик Оберона, сделался теперь его партнером, и в качестве такового Оберон представил его своим работодателям. Кроме того, Фред помогал на ферме и служил Оберону memento mori, или, по крайней мере, наглядным уроком. Он не мог уже обходиться без Фреда — во всяком случае, так ему казалось. Оберон надорвал конверт.
«Скажи Фрэнки, если он не образумится, то разорвет СЕРДЦЕ своей матери. Неужели он сам не видит; как он может быть так СЛЕП. Пусть бы завел себе хорошую женщину и успокоился». Оберон никак не мог привыкнуть к подвешенному состоянию из-за страха, что зрители ему не поверят, и оттого чувствовал себя виноватым. Иногда ему представлялось, что семейство Макрейнольдс — реальные люди, а вот зрители — плод фантазии, бледная фикция, жаждущая полноценной жизни, которую создал Оберон. Он швырнул письмо в ящик для дров. Успокоиться, найти себе хорошую женщину. Куда там. Немало еще крови утечет, пока Фрэнки уймется.
Он приберег на конец письмо из Эджвуда, странствовавшее не одну неделю, — основательное, длинное письмо от матери — и взялся за него, как белка за крупный орех, надеясь найти там материал, который можно будет использовать в сериях следующего месяца.
Что бы такое слямзить
«Ты спрашивал, что случилось с мистером Клаудом, мужем двоюродной бабушки Клауд, — писала мать. — Да, это поистине печальная история. Произошла она задолго до моего рождения. Мамди, как будто, помнит ее. Звали его Харви Клауд. Отец его был Генри Клауд, изобретатель и астроном. Лето Генри обычно проводил здесь, в хорошеньком домике, где позднее поселились Джуниперы. Кормили его, наверное, патенты, которых у него было множество. Старик Джон вложил какие-то деньги в его изобретения — то ли машины, то ли астрономические приборы, не знаю. Одним из этих изобретений была старая заводная модель планетарной системы, которая стоит под самой крышей, — ты ее знаешь. Ее изобрел Генри. Я говорю не о таких моделях вообще: их изобрел некий лорд Оррери, в честь которого они и называются „оррери“ (так сказал Смоки). Но Генри умер, не успев закончить работу (стоившую, как я думаю, кучу денег), и примерно в то же время Нора, бабушка Клауд, вышла замуж за Харви. Ее муж тоже работал над моделью. Сын своего отца. Я видела его фотографию, сделанную Обероном: без пиджака, рубашка с крахмальным воротничком, галстук (догадываюсь, что Харви не снимал его даже во время работы), вид увлеченный и задумчивый, рядом — механизм модели, еще не установленный на место. ГРОМАДНЫЙ, сложный, занимает почти всю фотографию. А во время установки (Джона уже давно не было в живых) произошел несчастный случай, бедный Харви упал с самой макушки дома и разбился насмерть. Предполагаю, что тогда все забыли о модели или не хотели о ней думать. Клауд, как я знаю, никогда о ней не упоминала. Помню, ты часто там прятался. А теперь, знаешь ли, Смоки торчит там день за днем, хочет посмотреть, нельзя ли запустить модель, изучает книги по механике и часовому ремеслу — что и как, точно не знаю.