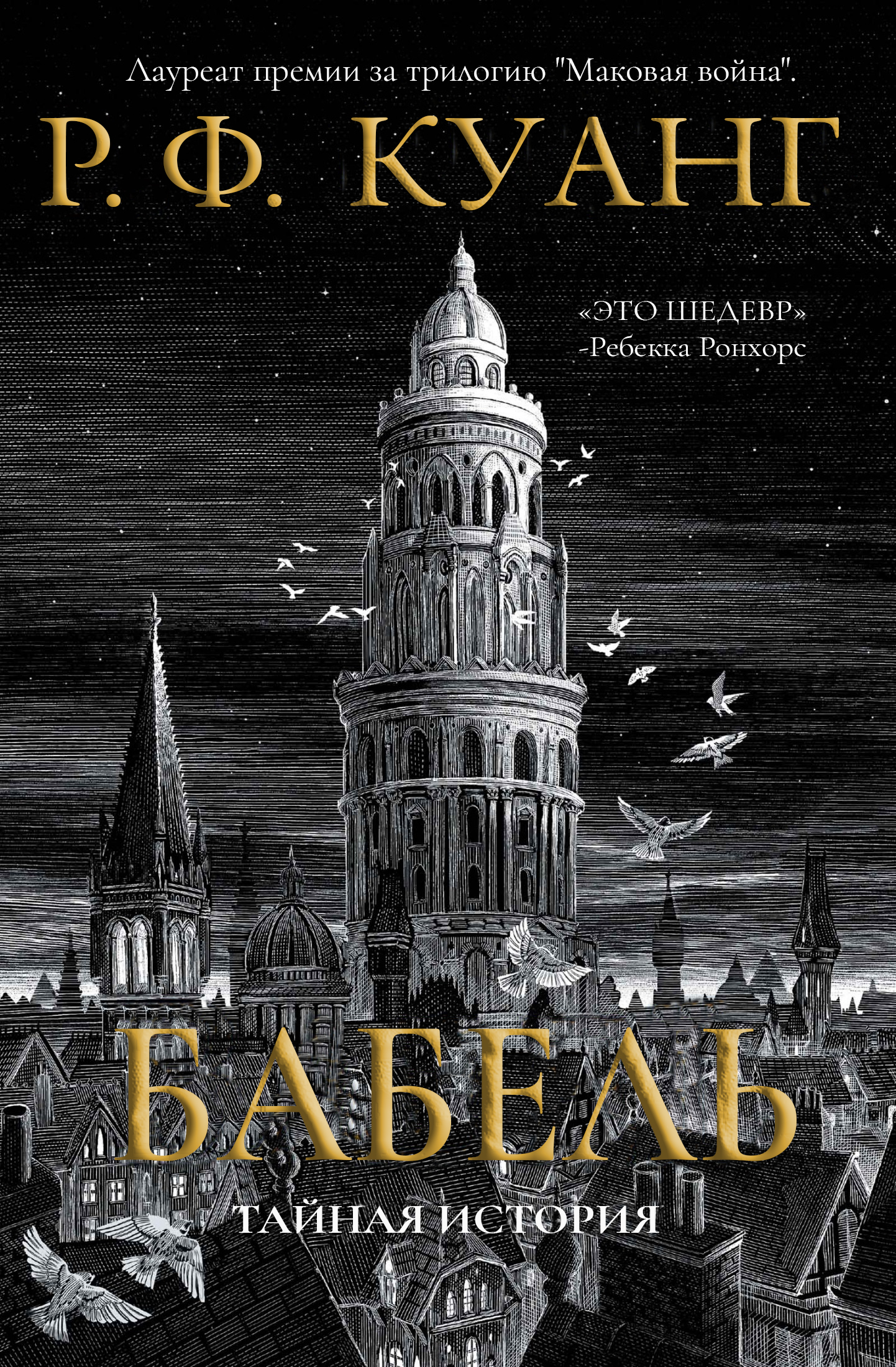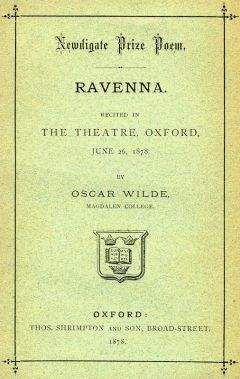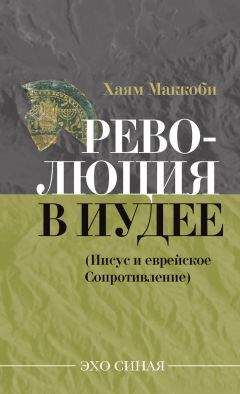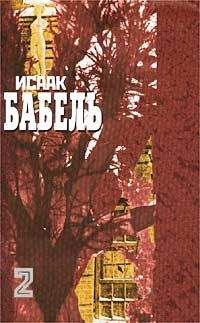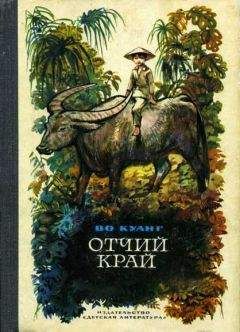думаю, с тех пор как Рами и Гриффин — нет, с тех пор как Кантон, я... Он сглотнул. Я чувствовал, что не имею права.
«Не говори так.»
«Это правда. Они были лучшими людьми, и они умерли...
«Робин, так не бывает...»
«И что же я сделал? Я прожил жизнь, которую не должен был прожить, у меня было то, чего не было у миллионов людей — все эти страдания, Виктория, и все это время я пил шампанское...
Не смей. Она подняла руку, как будто хотела дать ему пощечину. Не говори мне, что ты просто какой-то хрупкий академик, который не может справиться с тяжестью мира теперь, когда ты его увидел — это абсолютная чушь, Робин. Ты не какой-нибудь франтоватый денди, который падает в обморок при первом упоминании о страданиях. Знаешь, кто такие мужчины? Они трусы, романтики, идиоты, которые никогда не делали ничего, чтобы изменить мир, который их так расстраивал, прятались, потому что чувствовали себя виноватыми...
«Виновными», — повторил он. «Виновным, именно таким я и являюсь. Рами сказал мне однажды, что я не забочусь о том, чтобы поступать правильно, что я просто хочу выбрать легкий путь».
Он был прав, — сказала она яростно. Это путь труса, ты знаешь это...
«Нет, послушай.» Он схватил ее руки. Они дрожали. Она попыталась отстраниться, но он сжал ее пальцы между своими. Ему нужно было, чтобы она была с ним. Нужно было заставить ее понять, пока она не возненавидела его навсегда за то, что он бросил ее в темноте. Он прав. Ты тоже права. Я знаю это, я пытаюсь сказать это — он был прав. Мне так жаль. Но я не знаю, как жить дальше».
День за днем, Птичка. Ее глаза наполнились слезами. «Ты продолжаешь, день за днем. Так же, как мы делали. Это не трудно.
«Нет, это... Виктори, я не могу.» Он не хотел плакать; если он начнет плакать, то все его слова исчезнут, и он никогда не сможет сказать то, что ему нужно. Он проговорил, прежде чем слезы смогли его догнать. Я хочу верить в будущее, за которое мы боремся, но его нет, его просто нет, и я не могу жить день за днем, когда меня ужасает мысль о завтрашнем дне. Я под водой. И я был под водой так долго, и я хотел найти выход, но не мог найти такой, который не казался бы мне каким-то... каким-то большим отказом от ответственности. Но это... это мой выход».
Она покачала головой. Теперь она плакала свободно; они оба плакали. «Не говори мне этого».
Кто-то должен произнести эти слова. Кто-то должен остаться».
«Тогда ты не попросишь меня остаться с тобой?»
«О, Виктори.»
Что еще можно было сказать? Он не мог просить ее об этом, и она знала, что он никогда не осмелится. И все же вопрос повис между ними, оставшись без ответа.
Взгляд Виктории был прикован к окну, к черной лужайке за окном, к баррикадам, освещенным факелами. Она плакала, непрерывно и беззвучно; слезы текли по ее щекам, и она бессмысленно вытирала их. Он не мог понять, о чем она думает. Это был первый раз с тех пор, как все это началось, когда он не мог прочитать ее сердце.
Наконец она глубоко вздохнула и подняла голову. Не оборачиваясь, она спросила: " Ты когда-нибудь читал ту поэму, которую любят аболиционисты? Его написали Бикнелл и Дэй. Она называется «Умирающий негр».
Робин действительно читал его в аболиционистском памфлете, который он подобрал в Лондоне. Он нашел ее поразительной; он до сих пор помнил ее в деталях. Там описывалась история африканца, который, столкнувшись с перспективой поимки и возвращения в рабство, вместо этого покончил с собой. [28] Тогда Робин нашел это романтичным и трогательным, но теперь, увидев выражение лица Виктуар, он понял, что это было не так.
«Я это сделал», — сказал он. Это было трагично.
Мы должны умереть, чтобы получить их жалость, — сказала Виктория. Мы должны умереть, чтобы они сочли нас благородными. Таким образом, наши смерти — это великие акты восстания, жалкие причитания, подчеркивающие их бесчеловечность. Наша смерть становится их боевым кличем. Но я не хочу умирать, Робин». Ее горло сжалось. Я не хочу умирать. Я не хочу быть их Имоиндой, их Орооноко. [29] Я не хочу быть их трагической, прекрасной лаковой фигурой. Я хочу жить».
Она прижалась к его плечу. Он обхватил ее руками и крепко прижал к себе, раскачивая взад и вперед.
Я хочу жить, — повторила она, — и жить, и процветать, и пережить их. Я хочу будущего. Я не думаю, что смерть — это отсрочка. Я думаю, это просто конец. Она закрывает все — будущее, где я могла бы быть счастлива и свободна. И дело не в храбрости. Дело в желании получить еще один шанс. Даже если бы я только и делала, что убегала, даже если бы я никогда и пальцем не пошевелила, чтобы помочь кому-то еще, пока я жива, — по крайней мере, я была бы счастлива. По крайней мере, мир может быть в порядке, хотя бы на один день, только для меня. Разве это эгоистично?
Ее плечи смялись. Робин крепко прижал ее к себе. Каким якорем она была, подумал он, якорем, которого он не заслуживал. Она была его скалой, его светом, единственным присутствием, которое поддерживало его. И он желал, он желал, чтобы этого было достаточно для него, чтобы держаться.
«Будь эгоисткой, — прошептал он. Будь храброй».
Настал час отъезда, и мы разошлись по своим дорогам — я умирать, а ты жить. Что лучше — одному Богу известно.
ПЛАТО, Апология, перевод. Бенджамин Джоуэтт
Вся башня?» — спросила профессор Крафт.
Она была первой, кто заговорил. Остальные уставились на Робина и Викторию в различном состоянии неверия, и даже профессор Крафт, казалось, все еще обдумывала эту идею, проговаривая ее последствия вслух. «Это десятилетия — столетия — исследований, это все, похороненное — потерянное — о, но кто знает, сколько ...» Она запнулась.
«И последствия для Англии будут гораздо хуже,» сказал Робин. Эта страна работает на серебре. Серебро течет через ее кровь; Англия не может жить без него».
«Они построят все обратно...»
«В конце концов, да,» сказал Робин. Но не раньше, чем остальной мир успеет организовать оборону».
«А