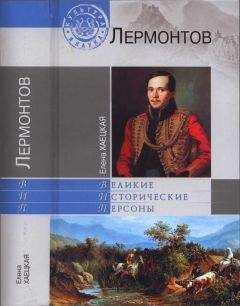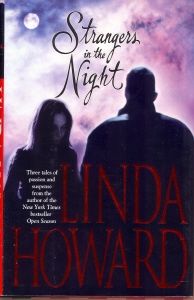— Как можно не верить в то, что есть и существует как закон? — удивился Ив. — Вы же норманн, а Божий суд — норманнское установление!
— Мне-то откуда знать! — ответил Фома с досадой. — Человек или верит, или не верит. Граф Ричард говорит, что вера — драгоценный дар, но только не один, а целая корзина. В ней разные лежат драгоценности. — Он вдруг пристально посмотрел на Ива, как будто усомнился в том, что тот его понимает.
Но Ив понимал:
— Это как если бы рубин означал веру в Господа Иисуса, а изумруд — веру в Пресвятую Матерь Божью, а аквамарин поменьше размерами, чем изумруд, — веру в святого Гвеноле, а нить жемчужин — во все чудотворные часовни, что выстроились на бретонском берегу, а слиток золота — в Святого Михаила…
Фома сказал:
— Вроде того. Но там лежат и более мелкие, менее ценные камни, которые означают веру в справедливость законов, веру в Божий суд, веру в женскую любовь… Есть там и совсем никудышные вещи, которые люди принимают за хорошие, вроде веры в дурное влияние черных кошек…
— Я не верю в черных кошек, — сказал Ив.
— В вашей корзине нет этой штуки, — кивнул Фома. — А мне не досталось ни аквамарина святого Гвеноле, ни вашей жемчужной нитки, — просто потому, что я родился в другом месте, полагаю. Нет у меня и веры в женскую любовь. А еще я считаю, что Божьего суда не существует.
Ив же на это ответил:
— Однако случилось все так, как случилось, то есть замок Керморван вернулся ко мне, а сир Вран, мой дядя, лег в могилу.
— Не тот ли это сир Вран, который прожил больше сотни лет?
— Так и есть.
— Как же вышло, что вы — его племянник?
— А, ну это совсем просто! — обрадовался Ив. — Видите ли, моя мать, которая вышла замуж за моего отца, имела младшего брата. И этим братом как раз и был сир Вран. Поэтому он — мой дядя.
— Но вам же не сто лет?
— Думаю, сир, мне столько же лет, сколько и вам, но время бежит то быстрее, то медленнее, и если войти в Озеро Туманов, то там…
Тут лохматый человечек сильно поддал ему под коленки и, дернув за полу одежды, пропищал:
— Осторожней, братец! Зачем этому норманну знать про наше озеро?
— Убирайся к своему отцу дьяволу, — сквозь зубы проговорил сир Ив. И несильно топнул ногой, стряхивая человечка.
Фома раздул ноздри, потому что разозлился.
— Второй уже раз вы говорите мне нечто неподобающее, сир!
Ив удивленно посмотрел на него.
— Я с вами сейчас не говорил, — ответил он. — Лучше вот о чем подумайте, сир: вот вы очень удачно сказали про могилу. Ну, что мой дядя лег в могилу.
— Это вы сказали, — возразил Фома. Ему вдруг захотелось закончить странный разговор парой добрых ударов. — Я же ничего подобного не говорил, потому что вовсе не люблю могилы.
Но Ив пропустил эти слова мимо ушей.
— В аббатстве Креси-Гранж сохранилась моя могила, — проговорил Ив задумчиво. — Хочу как-нибудь навестить ее.
— Вы полагаете, это смешно? — поинтересовался Фома.
— Смешно? — Ив надолго замолчал, разглядывая гостя. — У англичан странное представление о смешном, — наконец высказался он. — Англичане странно смотрят на вещи. Это потому, что вы живете на острове. Житье на острове сильно влияет на человека. Житель побережья всегда может уйти в глубь материка, но жителю острова приходится для начала садиться на корабль, а это совсем другое дело… Тот человек, что лежит в моей могиле, умер за меня, я заплатил за то, чтобы его имя выбили на камне, но и этого оказалось недостаточным, чтобы кто-нибудь запомнил бедолагу. Один лишь я его, кажется, и помню, а все прочие твердо верят, будто это я погиб и погребен в аббатстве. Кроме тех, конечно, — прибавил сир Ив, — кто знает, что я жив. Но и они почитают ту могилу моей, а это уже ни в какие ворота не лезет!
* * *
Трапезу наконец подали; принесли неразбавленное красное вино, чтобы Фома мог частично восполнить потерю крови. Явился и заспанный Эсперанс. С его появлением разговор принял более понятный для Фомы характер: Эсперанса в первую очередь занимали обстоятельства, при которых норманнский рыцарь был ранен.
Фома говорил сперва неохотно, но потом увлекся. Эсперанс все подливал ему красного вина лекарской рукой, а лекарская рука у него была тяжелее той, которая держала меч, потому что убить человека проще, чем исцелить его. Вот Фома и не нашел в себе силы противиться, и постепенно рассказал о себе гораздо больше, чем намеревался изначально.
В те времена — как, впрочем, и в любые другие, — рассказывать о себе означало по большей части рассказывать о тех, кого повидал и с кем дружил, либо враждовал. Вот Фома и начал с графа Ричарда Уорвика, который, как уже говорилось, был его сеньором и крестным, и образцом для подражания, и самым великим из существующих рыцарей.
Фоме было лет тринадцать, когда его отец, шериф Джон Мэлори, взял его на большой турнир возле замка Буврей. Дело было в августе; граф Уорвик праздновал новую большую победу над французами.
В день турнира Фома встал ни свет ни заря и обошел весь замок. Старый сержант его отца Чапстоу взял мальчика за руку и отвел в подземелье, чтобы показать диковину.
— Я не хочу в подземелье, — сказал Фома. — Я хочу увидеть пленника Ксентрайля, которого, говорят, захватил крестный.
— Мессира Ксентрайля вы, маленький господин, увидите на турнире, потому что граф Ричард, да благословит его Бог, обращается с ним как с ровней и непременно посадит рядом с собой и своей дочерью, леди Талбот, — ответил сержант, — а этого пленника он никому не покажет, и оттого увидеть его будет вам особенно любопытно.
— Да кто же он такой? — приставал Фома, пока они спускались по ступенькам.
Чапостоу посмеивался да помалкивал.
Наконец они очутились перед темной комнатой, вход в которую был забран решеткой, так что в каждый миг можно было, если посветить факелом, увидеть, чем занят запертый внутри человек.
Чапстоу взял факел и поднял его так, чтобы Фома мог посмотреть.
Фома прилип к самой решетке.
Свет и тени перебегали по камням, чередуясь и смешиваясь, а затем вдруг разделились: свет стал просто светом, а тьма превратилась в человека и зашевелилась. От неожиданности Фома отскочил от решетки, и тут человек выпрямился во весь рост и посмотрел ему в глаза.
Это оказался бедно одетый юноша, почти мальчик, с прозрачными, почти бесцветными глазами на очень бледном лице. Он медленно протянул к Фоме руки и заговорил на несуществующем языке. Голос у него оказался мелодичный, так что поначалу Фоме почудилось, будто он поет.
Сперва Фома жался к сержанту, а затем чудный голос завладел его сознанием, он перестал испытывать страх и вновь приблизился к решетке. Юноша продолжал вещать, а затем, так же внезапно, замолчал и возвел глаза к потолку в безмолвной молитве.