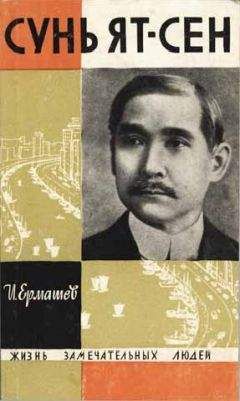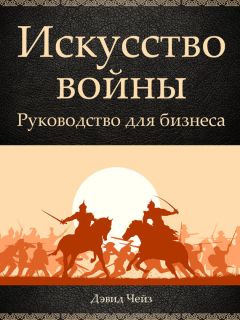За поворотом вот-вот должна была показаться ограда кадетского лагеря, но тут старик внезапно натянул вожжи и Буян покорно встал, лениво тряхнув рыжей чёлкой. Старик пригнул голову, закинул руки на зашеек и снял с себя золотой кругляшок с ушком, в отверстие которого был продет цветной шёлковый гайтан. Кругляшок был не то литой, не то печатный, с рельефным солнышком на аверсе и тугощёкой мордой льва на тыльной стороне. Старик протянул амулет Ивану. Кадет подставил ладонь и кругляшок, ярко сверкнув в солнечном луче, упал ему в руку. От неожиданности Иван вздрогнул и едва не выронил подарок — золотое солнце было горячим, словно его подержали в кипятке, как английскую тарелку.
— Наследуй, — сказал старик, — носи по праву.
— Что же — выходит, я тайному государю родня? — Иван накинул гайтан на шею и спрятал амулет под рубаху — золотая бляшка, как нагретая солнцем пляжная галька, легко ожгла ему грудь.
— Наследник — это тот, кто ступает в след предков. Кровь тут не при чём. — Старик, глядя в глаза Ивана, дёрнул из его руки прут. — Ты государь и есть.
— А наследовать-то что?
— Вестимо, Русь небесную, — удивился старик. — Да ты всё ли понял?
— Нет, — смущённо признался Некитаев. — Скажи-ка, а что такое дымволок?
Старик кисло сощурил лицо и вдруг дал кадету решительный подзатыльник. Иван вскинулся и глаза его гневно блеснули.
— За что?!
— Лося бьют в осень, а дурака завсегда, — спокойно объяснил старик. — В банях здешних по-чёрному топят, а дымволок — окошко, чтобы чад вытягивать. — С этими словами он неожиданно легко спрыгнул с козел на землю, стегнул Буяна прутом и пошёл от Ивана прочь. В лес. Без оглядки. Насвистывая в бороду про судьбу «всегда быть в маске» из Кальмана.
Глава 5
Бунт воды
(за год до Воцарения)
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом…
А. С. Пушкин, «Граф Нулин»
Мерно качаясь в белом, обшитом золотым позументом паланкине, который несли на плечах выученные особой кошачьей поступи восемь телохранителей-носильшиков, луноликая фея Ван Цзыдэн, крещёная в далёкой симферопольской церкви Татьяной, погружалась в глубокую воду воспоминаний. За шифоновым пологом проплывали стены домов Старого города. Юркие турки, посмуглевшие на Босфоре русские, исконные греки, вездесущие армяне, левантинцы из Галаты и Перы и прочие стоязыцие народы Нео Рома, завидев двух рослых гвардейцев, вышагивающих перед паланкином, замолкали и почтительно сторонились к склонившимся над улицей домам. Долгие взгляды провожали воздушный шатёр с гербовым штандартом, сочинённым геральдистами год назад вкупе с легендой, выводящей род Некитаевых едва ли не от Вольги, носильщиков с полированными шестами из дерева ситтим на плечах, и всадника — подростка с полоумной улыбкой на плоском лице и азиатским эпикандусом на веках. Вровень с лошадью грациозно ступал молодой, обутый в мягкие лапы, пардус — верховой китайчонок Нестор держал огромную кошку на поводу. Вслед за всадником, которого безымянный шутник нарёк «Сапожком», два гвардейца замыкали шествие.
Таня вспоминала другое место и другое время, не очень давнее, но всё же из той, прежней жизни, которая теперь казалась оконченной и навсегда уложенной под стекло, — из жизни тусклых страстей и робких жестов. Она проводила лето в имении с десятилетним Нестором. Кругом дико цвела земля, по счастью ещё не переведённая на язык газонной цивилизации. Тогда, в разгар полупраздной грибной страды, бывший опекун и бывший уездный предводитель дворянства Легкоступов-старший, уже разменявший восьмой десяток, но по-прежнему пристрастный к воротничкам-стойкам, не вылезал с корзиной из леса. Он сделался странен в тот год. Бывало, подолгу смотрел на деревья и думал. Таня спрашивала: о чём? «О нём, — отвечал старик, кивая на ближайший ясень. — Я полагаю, он изначальней всех ваших соображений на его счёт». Иногда, вернувшись с ранней прогулки, он говорил за самоваром дулёвской чашке: «Страшное дело — рассвет. С какой прытью выкатывает из земли солнце! Обычно жизнь ведёт себя приличней и выглядит длиннее».
Однажды старик не вернулся из леса. Его искали две недели — окрестные мужики с лесниками, вызванный из Петербурга Петруша и отряженные приставом из уездной управы урядники. Но Легкоступов как в воду канул. Уже грешили на волков, медведя, болотную пучину… Жена предводителя извелась и слегла в горячке. А ещё через неделю один крестьянин, скирдовавший на лесной поляне прочахлое сено, приметил у опушки пропащего предводителя, но тот, углядев косца, стремглав бросился в чащу. Мужик сходил в деревню, собрал народ, кое-кто прихватил охотничьих барбосов. Собаки след не взяли, но к вечеру мужики всё-таки сыскали в гущине потаённый шалаш, а внутри — обросшего и обтрепавшегося дворянского предводителя. Волосы на голове и в бороде его сделались похожи на шерсть кокоса, брови разрослись и ощетинились, глаза стали по-рысьи желты, а лицо потемнело. Он отбивался, но его скрутили и силком сволокли в усадьбу Некитаевых. Предводитель был странен и даже будто не в своём уме. «Зачем ты сбежал из дома в шалаш?» — недоумевал Пётр. «Меня позвал лес», — глухо говорил предводитель. «Как же он тебя позвал?» — «Он сказал: укореняйся». Когда его, чумазого, отвели наконец в баню, то к общему изумлению выяснилось, что на старческом теле кожа повсеместно затвердела и местами словно взбугрилась корой. Одеревеневший предводитель, три недели питавшийся росой, ягодами и грибами, поначалу всячески норовил улизнуть, потом, приведённый к порядку, долго умолял отпустить его обратно в лес, но ошалевший Петруша велел запереть родителя в чулане, чтобы на заре вместе с управляющим доставить его в Порховскую больницу. За ту бессонную ночь, пока предводитель скулил и скрёбся в чулане, жена его от ужасных предчувствий потеряла волосы — утром не по возрасту тугая коса её осталась лежать на подушке, в то время как хозяйка безумно таращилась у туалетного столика на своё плешивое отражение.
В больнице Легкоступов-старший прожил два дня, а на третий тихо помер в отдельной, настрого закрытой для посетителей палате. На вскрытие, помимо медицинских светил, местными эскулапами были настоятельно приглашены два маститых петербургских ботаника. Таня хорошо помнила бледное лицо Петруши, когда тот читал заключение о результатах анатомирования, беспомощно пестрящее полупонятными флоэмами, ксилемами, паренхимами и камбием, а проще говоря — растерянное уведомление о том, что покойный находится вне компетенции медиков и патологоанатомов, ибо целиком и полностью принадлежит растительному царству. После того, как родня предводителя получила решительный отказ на просьбу о выдаче тела, Таня украдкой прочла в Петрушином дневнике: «Родители любят/терпят детей не потому, что те хороши, а в силу их сыновности и дочерности. Равно и наоборот, ибо папашек-матушек не выбирают. Признаться, порой мне и прежде казалось, что я зачат от колоды». Что ж, в жизни бывает всякое. Бывают и такие минуты, когда приличия не имеют никакого значения. Поэтому Таня взяла перо и дописала: «Твой отец оказался достойнее прочих хотя бы потому, что остальные не предпринимают ни малейших усилий, чтобы не смердеть. Надеюсь, он машет тебе из древесного рая листиком». С тех пор зачатый от колоды Петруша больше не оставлял свою философическую тетрадь на виду.