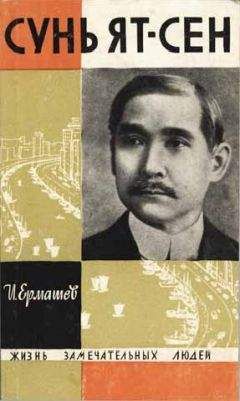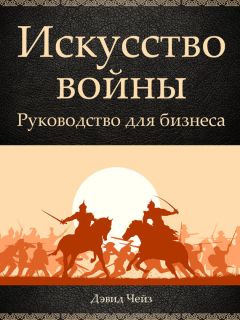Напрочь облысевшая предводительша так никогда и не постигла всей злейшей нелепицы события — разум её спасительно сомлел, и она навсегда отгородилась от мира стеной счастливого непонимания. Впрочем, вдовство её длилось недолго — в тот же год перед Рождественским постом она внезапно отдала Богу душу, сказав напоследок случившейся рядом горничной: «А моя Марфинька лукум любит, вот», — и с этим воспоминанием о никому неведомой сладкоежке Марфиньке, испустила финальное облачко пара, так как дело было на застеклённой террасе и уже прихватил округу первый морозец. Несмышлёный Нестор, как было у него заведено, отметил оба известия идиотской улыбкой, полной плоских зубов и розовых дёсен. А между тем, впору было обзавестись понятием и чувством.
Потом был другой год. И второй. И, может быть, третий. Она не помнила точно. Кончалась весна, над озером стоял майский полдень и грел рыбам их холодную юшку; под неподвижным солнцем млели деревья и травы, а птицы летали высоко — на самом небе. Тогда (Царица Небесная, она не видела его вечность!) в усадьбу приехал Иван и с ним — Пётр, хлопотливый, как флюгер под ветром. Пётр вдохновенно бредил какими-то безрассудными надеждами, а Иван смотрел на неё — в зрачках мерцал убийственный огонь — и в глухом азарте оценивал её готовность вновь покориться ему с прежней изнемогающей полнотой. Что ж, она была готова покориться. Но на этот раз без былого легкомыслия, без детской, зажмурившейся отваги… Три года уже как следовало ей «установиться» («Пятнадцати лет я устремился к знаниям… Мне было тридцать — я установился… Стукнуло сорок — и я не колебался…» — изрёк на отчине Джан Третьей Конфуций и обязал соотечественников к подражанию), так что теперь она потребовала бы не только пьянящей преступной забавы, но и соблюдения основательного интереса. А интерес её, ни много ни мало, был таков — в своём пределе бытия она хотела невозможного. Она хотела славы жены государя У-ди, о красоте которой говорили: «Раз только взглянет — и рушится город. Взглянет ещё раз — и опрокинется царство». Причём, желала этого буквально — по цитате. Таков был её вклад в копилку вселенского вздора.
Нет, ей не то чтобы поздно было мечтать об этом — вовсе нет. В свои года она оставалась по-девичьи свежа и полна такого обаяния, такого благоухающего соблазна, что имела все шансы прельстить не только медных клодтовских парней, но и их жеребцов в придачу. Казалось (а может, так и было), однажды в её организме произошёл какой-то счастливый сбой, отчего из строя вышел неумолимый механизм старения, и с тех пор она была обречена пожизненно носить на себе цвет своих девятнадцати лет. Дело было не в ней самой — вздор выходил из наложения грёз на сопутствующие обстоятельства. Просто тогдашнее её положение не давало никакого основания для столь высоких притязаний. Разумеется, она заводила любовные интрижки со всяким богемным сбродом, который составлял привычную среду её жизни. Взять хотя бы князя Кошкина… И высоколобые умники, и небрежно-образцовые питерские франты, как истые ценители изящного, радостно обольщались её изысканной китайчатой красой, однако, когда дело доходило до поцелуев и смятых простынь, — Таня отчаянно скучала. Всё получалось словно понарошку, чересчур умственно — не раскалённая бездна страстных свершений, а топкая трясина половой демагогии.
Иное дело легендарный полководец, не проигравший ни одной битвы и ни разу не допустивший во вверенных ему войсках бессмысленных потерь, герой, чьё слово спасало или губило одновременно тысячи жизней, а имя гремело всюду — от смолистой Сибири до лимурийского Мадагаскара и разлёгшейся поперёк глобуса Америки. Этот мог дать многое. Может быть — всё.
Конечно, Таня читала достославного суфия:
Когда бы, захватив с собой стихов диван,
Кувшин вина, лепёшку и стакан,
Провёл бы я с тобою, пери, день в трущобе,
Мне позавидовать бы мог любой султан, —
и вполне способна была сама по достоинству оценить подобный «день», но вместе с тем она рассудочно понимала, что всё это — одно возвышенное суесловие, велеречивая ложь, литература и только. Лично она предпочла бы очутиться «в трущобе» с султаном. Словом, Таня не собиралась противиться Ивану и не предпринимала ровным счётом ничего, чтобы устоять перед обаянием его жестокой силы. Зачем? Ведь их желания совпадали не только в обоюдном преступном влечении, но и тщеславные помыслы их были почти зеркально схожи. Другое дело, что Иван добился того, чего добился, сам, своею собственной волей, а Таня могла добиться чего-то подобного, лишь отразив первообраз, перенеся на себя контур чужого величия, присвоив себе заслуги оригинала.
В тот день, выслушав речи Петра и брата, она осталась в полной уверенности, что Петруша со всем своим недурно отлаженным мозгом вовсе не был столь уж необходим Ивану в реализации тех грандиозных претензий, которые сам он вслух предпочитал не высказывать, — нет, генерал брал его с собой только затем, чтобы беспрепятственно, избегнув подозрений и домыслов, увезти в Царьград её, Таню. Так она думала и поныне, хотя польза Петра в осознании Иваном собственного предназначения была теперь вполне очевидна.
— Ты живёшь волей, я — рассудком, — сказал однажды Легкоступов генералу. — Мы прекрасно достроим друг друга.
— Твой разум овладел телом, — возразил Некитаев. — Он лишил его собственных устремлений. Часть победила целое. И ты ещё гордишься этим?
Но Пётр был настойчив. Он очаровывал, он пророчествовал и всё больше заражал Ивана своим ледяным азартом.
— Самые гнусные злодейства одним махом должны быть вывернуты наизнанку, как куриный желудок, вычищены и преображены в героические, похвальные деяния, — говорил он. — Если наша затея провалится, то лишь потому, что тех, кто пойдёт за тобой, испугает твоя бессмысленная, не освящённая героизмом жестокость.
И Некитаев согласно кивал.
— Уничтожение действующих порядков и упразднение существующей морали есть акт творения, демиургический акт, — говорил Пётр. — Убийство и насилие — это существо и душа переворота. Надеюсь, эти слова тебя не рассмешат. Хотя, конечно, найдётся достаточно придурков, согласных над этим посмеяться.
И Некитаев не смеялся.
— На что претендует государство в лице консулата? — вопрошал Легкоступов и тут же отвечал: — Сохранить устои, достигнуть согласия, преумножить благосостояние подданных. Иными словами, оградить власть тех, кто находится у власти, и не допустить к власти всех остальных. Прими как данность тот факт, что только государство обладает монополией на принуждение, раз и навсегда узаконив собственную жестокость. Так есть, государство не может быть иным. Поэтому то, что мы задумали — это не переход от безнравственного к нравственному или от беззакония к правопорядку, это просто схватка одной власти с другой, где исходом будет свобода для победителя и рабство для всех остальных.