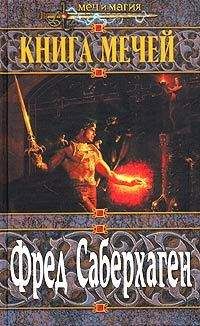– Все как взбесились. Это ты мне людей сбиваешь?
– А ты отпусти меня на волю – сам увидишь.
– Хватит, заладила – «отпусти». Много хочешь! Кто еще из пленных так живет?
Она отвернулась и пошла вдоль стены, а он за ней. Теперь она уже могла позволить себе эту роскошь – не смотреть на него. Он продолжал говорить:
– Ладно бы, только здесь все свихнулись. Нет, вильманский герцог гонца прислал. Предлагает начать переговоры. А как ты тут руку могла приложить, пусть черт разбирает. Ты здесь сидишь безвылазно. Хоть и говорят, что ведьмы летают, ты-то, похоже, не можешь. Могла бы летать, не сидела бы.
Она не отвечала, продолжая идти впереди него. Ее длинный плащ волочился по земле.
– Переговоры. Никогда за ним такого не водилось. Может, старик убить меня замышляет? Он сволочь хитрая, с него станется! В честном бою ему нипочем меня не одолеть, вот и заманивает в ловушку! А договор и выгоды – это как приманка. Ну! Что молчишь?
Совершенно невпопад она спросила:
– У тебя был когда-нибудь свой дом? Не место для отдыха и ночлега, а дом, о котором ты помнишь вдали, и не забываешь, когда живешь в нем, где каждая вещь тебе знакома не потому, что так надо для чего-то, а потому, что сжился с ней, куда тебе всегда хотелось бы вернуться, как бы ни баловала тебя удача в чужой стране?
– Нет. Никогда. Зачем? А у тебя был?
– У меня был. Но твои люди разрушили его.
– Ты говоришь о городе?
– И о городе тоже.
И обернулась. Он мало что понял из этого неожиданного монолога, кроме того, что сейчас она говорит с ним откровеннее, чем когда-либо. И сказал:
– Знаешь, я решил принять приглашение Вильмана. Я сам поеду обсудить с ним договор. Ловушками меня не запугать.
– Это твое дело, – безразлично сказала она.
После этого разговора ей была предоставлена свобода передвижения внутри крепости – без провожатого. Но это было неважно. Ничего не было важно, кроме одного – крепостная стена, которую толкали голыми руками, поддалась!
* * *
Хотя Измаила освободили от наблюдения, он продолжал периодически появляться перед ее очами, – из чувсва долга, из любопытства или еще по какой-либо причине. Он подробно рассказывал о подготовке к отъезду. Сам он, конечно, должен был сопровождать Торгерна. Карен позволяла ему говорить сколько хочется. Он не мешал думать. Выгода есть выгода, она на первом месте, но Флоллон прав – чего ждать от человека, который всегда предпочтет урвать, а не выторговать? И потом – в этом она была уверена, при любой выгоде этот мерзавец не женится, если женщина ему не понравится. (Хотя это, скорее, было в его пользу. Но она о том не думала). Значит, еще и это на мою голову – чтоб она понравилась. Прекрасная Линетта. Знатная дама всегда хороша по представлениям простолюдинов, но, судя по тому, как все единодушно твердят о ее красоте, она хороша на самом деле. И еще – кроме пресловутой красоты, о ней ничего больше не известно. Это, пожалуй, хорошо.
Она сказала Измаилу, когда он пришел накануне отъезда («с очередным докладом», – мысленно съязвила она).
– Теперь гляди в оба, потому что будут происходить важные вещи – для твоего хозяина, а, значит, и для тебя.
Он согласно кивнул головой. Так что же? За кем он отныне будет следить и для кого?
* * *
Торгерн и его люди выезжали из крепости рано утром. Уже рассвело, но день обещал быть пасмурным. Дул промозглый ветер. Впрочем, почти все население крепости все равно сбилось во дворе поглазеть на торжественный выезд. Торгерн глядел равнодушно на всю эту давку, гомон, суету. Сама поездка, казалось, ничуть не занимала его. Катерн, возглавлявший свиту, озабоченно на него косился. Но ничего не случилось, двинулись.
Ничего из царившей внутри крепости суеты не отразилось снаружи. Все те же мрачные пустынные пространства, жмущиеся к земле редкие фигуры крестьян, лужи, в которых не отражалось солнце. Выезжая из ворот, Торгерн обернулся. И увидел ту, которую бессознательно искал в толпе. Она стояла на крепостной стене, в своем вечном темном плаще, длинном и широком. Не женщина, скорее, птица. Тщедушное тело, острый нос, и большие сложенные крылья. Он знал, что забудет о ней еще до того, как за ним захлопнутся ворота крепости.
И забыл.
* * *
Но она! Словно в неизлечимой болезни наступило непредсказуемое облегчение. Конечно, ее ненависть по мере роста укрепляла сама себя, как Милон со своим быком, но даже ей требовалась передышка. Карен казалось, что только с отъездом Торгерна по-настоящему наступила весна. И дни еще бывают солнечные, и трава наливаеся зеленью. Господи! Мир существует! Мир, оказывается, еще существует… Теперь она могла посвятить все время больным и приготовлению лекарств. Она привлекла к этому Бону и Магду – пусть учатся! Кроме этого, она засадила их за шитье платья, потому что ее единственное и неснимаемое страшно обветшало (правда, это платье во всем должно было повторить первое). Самой ей было некогда – она составляла новую мазь от ожогов.
Новости, приходившие из Вильмана, были самые утешительные. Она узнавала их от Флоллона – он наместничал в отсутствие Торгерна, и в последнее время заметно зауважал ее, хотя вряд ли считал реальной силой; а еще больше от жены коменданта – ее мальчик быстро выздоравливал. Она могла торжествовать – первое же большое сражение оказалось выигранным. Но понемногу смутное недовольство начало овладевать ею. Она не доверяла Торгерну, не доверяла даже тогда, когда он шел по пути, который она считала наилучшим. И теперь, когда он предоставлен себе… Надолго ли его хватит?
Снова приехал гонец, и ей удалось узнать привезенные вести. Торгерн покинул герцогскую резиденцию, но все еще оставался в Вильмане. Его пребывание там было отмечено празднествами. Празднества! Она понимала, что это значит. Флоллон определял это словечком «загулял». Хотя, судя по всему, госпожа пришлась Торгерну по нраву (а может, даже и больше), дольше сдерживаться он не мог. И, между прочим, все к этому относятся с полнейшим пониманием. Может даже, предполагаемые тесть и жених прохлаждаются у одних и тех же девок.
Они ведь сговорились. Правда, письменный договор не был составлен. «Рыцарское слово»! Но хоть это… И вот теперь празднуют. Ладно, пьянство, разврат – это цветочки. Но, сволочи, они же наверняка гуляют по окрестностям. Эти господа охотятся на крестьян – все равно, своих или чужих, как на зверей… только к зверю проявляют больше милосердия.
Нет, не получалось у нее отдыха. И не могла она оставить того, что, как она считала, было ей предназначено в этом княжестве. Теперь, когда телесно ей стало немного легче, и ненависть не сковывала ее панцирем, мысль ее должна была бы получить большую свободу – и что же? Карен неотступно думала о Торгерне. Если бы она выкинула его из своего сознания, без сомнений, в логической цепи что-то бы разрушилось. И в то же время ей казалось, что в этих мыслях заключено какое-то зло. В самих ее мыслях. Как будто недостаточно зла в Торгерне! И душа наполнялась недобрыми предчувствиями.