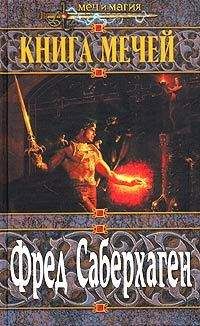Торгерн появился раньше, чем весть о его возвращении.
* * *
Он никогда в жизни не видел снов. А если и видел – никогда не помнил. И когда увидел сон впервые, то сразу оказался беззащитен перед ним. Сам сон был продолжением, а также развитием действительности – в своей постыдной сущности, которая, впрочем, не казалась ему ни мерзкой, ни грязной, ни непристойной, до того самого мгновения, когда он заметил, что она наблюдает за ним. Она. Карен. О которой он ни разу не вспомнил за весь этот месяц. Она именно наблюдала – не подсматривала, не пряталась. Стояла в длинном плаще с капюшоном. Только тогда он не видел вблизи ее лица. А сейчас видел, и отчетливо различал презрение в устремленном на него взгляде. Затем она повернулась и пошла прочь. Он бросился за ней – не зная, не представляя, зачем. Но, хотя он бежал, а она шла не торопясь, он никак не мог догнать ее, и скоро потерял в этих длинных темных переходах.
Потом он проснулся – все еще с ощущением долгого бега. Сердце тяжело колотилось, и хотелось пить. Хотя, возможно, это было с похмелья.
Сон кончился, но ведьма не ушла никуда. Она ни разу больше не снилась ему, но наяву он не мог от нее избавиться. Не то чтоб он о ней думал. Он просто не мог о ней забыть. Он поймал себя на том, что готов крикнуть: «Да не торчи же ты у меня перед глазами!» А ведь такого никогда не было, когда она действительно была поблизости. И еще он ощутил, что ему ничего не хочется.
Мир стал тусклым и серым. Нет, ему не было скучно. Просто ничего не хотелось. И болен он не был. Все было отлично, вина – хоть залейся, и девки – что надо и дело свое знали, и если бы не этот сон…
Даже не перед глазами она торчала, а как гвоздь в голове. Или опять повторялось то же наваждение, что и в Тригондуме? Так ведь не было же в ней ничего! Он так определил, решил, и все. Душевное неудобство усиливалось от того, что доказывать это приходилось самому себе, а он спорить с собой не привык. Спор же проистекал не потому, что он не решился бы взять то, что ему хотелось, а из-за того, что желать такую безобразную женщину было унижением в собственных глазах.
Но была ли она так безобразна? Конечно, была! Сколько раз он задавал себе этот вопрос – и, стоило посмотреть на нее, как он в этом убеждался. Стало быть, и сейчас – самый простой выход – увидеть ее. И все пройдет. За этим он и рванулся – за испытанным средством. Из-за этого торопился, гнал коня по дымящимся весенним дорогам. Он ехал не к ней, а к себе, чтобы обрести свободу от нее.
Почему-то Торгерн ожидал, что Карен будет так же стоять на стене над воротами, как когда он ее оставил. Но ее там не было. И не было вообще нигде. Ни в толпе встречающих во дворе, ни на галереях.
Сбежала? Умерла? Прячется?
Карен была на заднем дворе. Она не хотела идти встречать Торгерна, и сидеть у себя тоже не хотела. Последние минуты относительной свободы. Впрочем, здесь тоже было немало народу, в основном женщины, и, в основном, занятые делом, те, кому не до ротозейства. Кто-то развешивал мокрое белье – день выдался ясный и солнечный, многие сновали между кухнями и кладовыми. Ей бы тоже пора было пойти, заняться делом. Но она стояла просто так и смотрела на синее небо и молодую траву. И тут появился Торгерн в сопровождении Флоллона, Элмера, и еще нескольких им подобных. Флоллон что-то докладывал на ходу.
По приезде Торгерн сразу же решил обойти крепость, проверить, все ли в порядке. Подлинная цель, однако, была все та же, что привела его из Вильмана. Увидев Карен, он остановился. Он ее искал, и все же то, что она оказалась именно здесь, было для него неожиданностью. Флоллон продолжал что-то увлеченно говорить, остальные слушали.
Она не двинулась, не повернула головы, все время ощущая тяжелый, неотвязный взгляд, нацеленный на нее.
В это мгновение кто-то потянул ее за край плаща, и тонкий голос произнес ее имя. Она повернулась. Это был маленький мальчик, которого она вылечила – сын коменданта.
– Карен! Карен! Смотри, что я тебе принес. – Он вытащил из-за пазухи маленького черного котенка. – Это подарок. Для тебя.
Ей сразу стало легче. Вот здоровые громилы стоят навытяжку перед князем. А мальчику наплевать – он ей котенка принес, и это главное событие. И где он еще его взял? В крепости она ни у кого не видела кошки. Недавно из Малхейма привезли, надо думать…
Котенок вертел головой, глядел узкими, не до конца прорезавшимися глазами.
– Смотри, какой черный!
Карен взяла котенка на руки, погладила, и он незамедлительно лизнул ее ладонь.
– Есть, наверное, хочет, – задумчиво сказала Карен.
– Он был совсем слепой! – восторженно сообщил мальчик. – А теперь видит!
– А глаза еще глупые… Ладно, пойдем, покормим его.
Мальчик ухватился за ее руку, и они пошли вдоль стены. Торгерн смотрел, как она уходит с мальчиком и котенком. Он молчал.
Он ехал сюда, чтобы ее увидеть. Он ее увидел. Не прошло.
* * *
Она сидела за столом в своей комнате, подперев голову руками. Из-за перегородки доносились смех и восклицания – Бона и Магда возились с котенком, смотрели, как он лакает молоко. А она сидела одна, размышляя. Значит, опять! Ведь, кажется, с этим было покончено. Значит, ошиблась, не учла, на какие выверты способна эта душа, успокоилась… Она думала, что нашла единственную брешь в защите, окружающей его душу, защите почти безупречной, слабое место в ней нащупалось лишь после долгих поисков. И в этом оказалась опасность!
И теперь ее замысел потребует вдвое больше усилий – вершить дело, ради которого она пришла, и одновременно противостоять гнусным вожделениям – да кто ж такое выдержит! Бежать прочь из княжества – разве не сумеет она усыпить бдительность своих сторожей? Нет! Свобода – это то, чего она желает больше всего, и на эту приманку ловит ее Враг. Похоть для сластолюбца, золото для скупца, и свобода для вольного человека… искушение… Она усмехнулась. Хороша бы она была, бросив свое дело, не доведя его до определенного конца. Но что же делать? Никто не поможет, никто не поймет. К черту! Она уже не та, что в Тригондуме, не станет ждать, пока ее потащат на бесчестье. Она сама нанесет упреждающий удар. И такой удар, для которого понадобятся силы немалые. Это не мелкого подонка вроде Оскара припугнуть. Тут расплачиваться придется по большому счету. Может быть, не сразу, но придется. Так что же – оставить себя беззащитной? Рабски подчиниться насилию? А главное – отказаться от единственной возможности действовать?
Опять этот тупик. Убежать. Не сделать. Так нет же. Клин клином вышибают. На чем обожглась, то и станет оружием. Оружие? У меня, у лекарки? Да, для защиты.
Трудно? Она вспомнила любимого Исаака Сириянина: «Носи иго свободы своей, или будешь согбен под иго рабское и послужишь врагам своим».