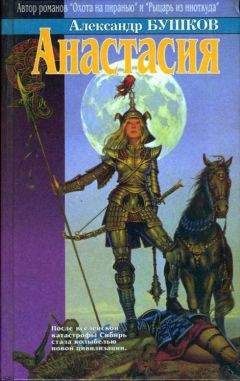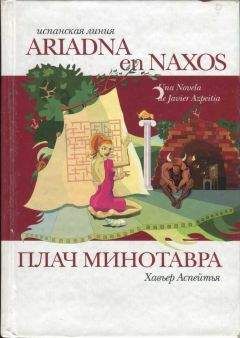Вот такой он у нас, Гермес. Конечно, в силу своего положения он обладает кое–какими способностями: полеты и ходьба по воздуху, фокусы с невидимостью и прочее, но на роль подлинного вершителя судеб не вытягивает. И он не настолько глуп, чтобы не знать, что и мы об этом прекрасно осведомлены.
– Я слышал, ты в последнее время стал отрицать существование богов? – спросил Гермес.
– Неправда, – сказал я. – Вы существуете, и с вами приходится считаться.
– Смел…
– Что поделать, таким уродился, – сказал я.
– Знаешь, постоянно насмехаться над богами опасно. Могут и отомстить когда–нибудь.
Я насторожился – не понравились мне что–то его глаза – и сказал:
– Ударом молнии?
– Рипо, голубчик, – поморщился Гермес. – Ты человек умный, спору нет. Но слышал ли ты, что своих желаний нужно бояться, ибо они сбываются?
– Не приходилось, – осторожно сказал я.
– Можно наказать молнией, а можно и удачей. – Он задумчиво повертел в руке кадуцей, улыбнулся преувеличенно добродушно и коснулся кадуцеем моего плеча. – Предрекаю тебе удачу, ею тоже можно наказывать…
– Намекаешь на судьбу Мидаса?
– Вот видишь, ты не понял. – Он улыбнулся уже искренне.
И растаял, исчез, как рассветный сон.
Горгий, начальник стражи Лабиринта
– Никак не получалось у нас разговора, не клеилось что–то. Вернее, я не мог начать, не знал, с чего начать. Минос долго рассказывал о вчерашних гонках колесниц, жалел, что проиграл тот, новенький, с гнедой квадригой, – крайнюю левую лошадь пришлось буквально накануне гонки заменить другой, слаженная квадрига перестала быть единым организмом, и возничий едва не сломал себе шею. А первым пришел Феопомп, которого Минос за что–то неизвестное мне крепко недолюбливает, но послать на Олимпийские игры придется все–таки его – при всем своем к нему отношении Минос вынужден признать, что этот тип обладает врожденными бойцовскими качествами и непременно выиграет. Лучше уж послать Феопомпа, чем не посылать никого, нужно помнить о нашем престиже и нашей роли в Играх – Минос чрезвычайно горд, что именно критяне стояли некогда у колыбели Олимпийских игр. Я слушал вполуха, рассеянно поддакивал в нужных местах, но, видимо, в конце концов все же рассеянность и равнодушие вырвались наружу, и Минос их заметил. Он остановился (мы прохаживались по западной галерее, самом тихом месте дворца, где всегда полумрак и тишина) и положил мне руку на плечо:
– Что с тобой происходит? Я заметил давно. И не я один.
Он облегчил мне задачу, сам свернул на нужную мне тропу, но я то ли растерялся, то ли не нашел нужных слов и смог лишь пробормотать:
– Пустяки.
– Мне–то ты можешь сказать? Долги? Нет, ты бережлив и богат. Заболел отец? Или, – он лукаво подмигнул, – влюбился наконец старый солдафон? Мы с тобой, хвала священному петуху, еще в том возрасте, когда можно подкреплять влюбленность практическими действиями. Я могу чем–нибудь помочь?
– Только ты и можешь помочь, – сказал я.
– Интригующе. – Он беззаботно улыбнулся. – Так чем же я могу тебе помочь?
– Мне, собственно говоря, помощь не нужна.
– Значит, ты выступаешь посредником? Почему же тот, за кого ты просишь, не обратится ко мне сам? Клянусь священным дельфином, я не думал до сих пор, что мои подданные боятся обращаться ко мне с просьбами.
– Ему довольно затруднительно обратиться к тебе с просьбой, – сказал я. – Для этого ему нужно сначала выйти из Лабиринта.
Улыбка мгновенно исчезла с его чуточку обрюзгшего, но все еще красивого и волевого лица, он невольно оглянулся, но на галерее было пусто и тихо.
– Ты опять за свое? – спросил он тихо, без выражения.
– Да, – сказал я. – Он двадцать лет сидит в Лабиринте. В чем его вина? В том только, что рожден распутницей?
Он схватил меня за серебряный наплечник, приблизил бешеные глаза, и гнев сделал его лицо совсем молодым, каким оно было много лет назад, когда мы врубались в стройные ряды египетской пехоты или отражали атаку хеттов:
– Не забывайся! Ты как–никак говоришь о царице Крита!
Я молча смотрел ему в глаза, и наконец он убрал руку, как–то расслабленно она соскользнула с моего плеча, перстни царапнули по закраинам моего панциря. Склонив массивную голову, он отошел на шаг, отвернулся и заговорил тихо:
– В чем–то ты прав. За один намек на это людей разрывают лошадьми перед дворцом, но если возле меня не будет хотя бы одного человека, с которым можно откровенно говорить, жизнь станет невыносимой. Шлюха, да, и все это знают. А что ты мне предлагаешь делать? Лупить метлой, как принято у черни? Или сделать нечто более приличествующее царю – отрубить голову? Отравить, быть может?
У меня сжалось сердце – нельзя вычеркнуть из памяти наши бои и походы, нельзя не сочувствовать тому, кто несколько лет дрался с тобой плечом к плечу, а однажды спас тебе жизнь. Тем более нельзя не сочувствовать, когда необъяснимым чутьем солдата чувствуешь в нем какую–то перемену. Что же, годы нас так меняют? Жизнь? Одежда из пурпура? Злая воля богов? И в чем же эта перемена состоит, до сих пор не могу понять.
– Не будем о Пасифае, – сказал я. – Не о ней речь, в конце концов. Я не хочу оскорблять ни тебя, ни даже ее. Мы сами недостаточно чисты, чтобы быть судьями. Я лишь напоминаю о Минотавре.
– Почему тебя так волнует его судьба? Судьба одного–единственного человека? Мы с тобой видели поля, покрытые тысячами трупов, огромные пылающие города, в которых не осталось ничего живого. Ты в состоянии подсчитать, сколько человек мы с тобой убили?
– Это была война, – сказал я.
– Ну и что? Разве за эти годы ты еще не успел понять, насколько мала цена жизни отдельного человека? Какому–нибудь голодному мудрецу простительно называть каждого живущего единственным и неповторимым. Но мы–то, Горгий, мы–то прямо–таки обязаны мыслить иными категориями. Государство, армия, город – вот о чем мы думаем, и тысячи лиц сливаются в одно поневоле, у нас нет возможности расщеплять целое на частички.
Он говорил что–то еще. Я солдат, прежде всего солдат, только солдат. Я не умею рассуждать на такие темы, да и мало что в них понимаю, откровенно говоря. Не мое это дело. Поэтому всякий раз, как только заходит речь о каких–то сложных и отвлеченных понятиях, я теряюсь, не умею связно высказать свои мысли. Но и устраниться от спора на сей раз не могу. И отступать не собираюсь. Это продиктовано чисто военным складом ума: можно иногда отступить, но нельзя отступать до бесконечности, когда–нибудь да следует закрепиться и принять бой.
– Тридцать лет назад ты был другим, – сказал я.