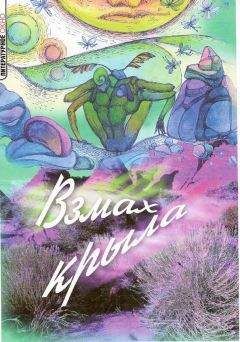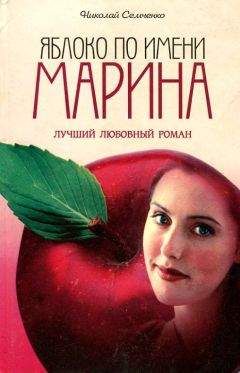Впереди, откуда бежала девчонка, всё отчётливей несло злым страхом. И всё громче был приближающийся пёсий брех.
"Ерунда какая-то. Что ж они там, с собаками на человека?.. Или впрямь беглая?.."
Чернявая снова задвигалась. Не поднимая головы, она трижды коснулась лбом земли, потом на четвереньках подошла к Гесу вплотную (очень ловко, кстати, с изумительной бескостной гибкостью — не переступая, а стелясь) — и обхватила его ногу, ткнувшись головой в сапог.
Чёрт знает что!
Сбоку, шелестя травой, подошёл Владыка.
— Что будешь делать, страж?
— Не знаю… Может, взять её с собой?
Пламенный промолчал. Погоня приближалась.
— Владыка, нельзя же просто бросить её!
— Почему?
— Здесь её не ждёт ничего хорошего.
— А что хорошего ждёт её с нами?
Тонкие руки на сапоге Эхагеса сжались, словно их хозяйка понимала, к чему клонится дело. В голове у стража царил сумбур.
— Отцепи её. Хватит тратить время.
На луг выскочили две крупные, довольно лохматые собаки, а следом за ними — целая свора. Девчонка сжалась ещё сильнее, но не задрожала. Владыка повёл ладонью, словно отмахиваясь, и собаки встали, упираясь всеми лапами, не прекращая заполошно лаять.
— Отойди от неё, Эхагес.
— Нельзя же бросать… — сказал Летун тоскливо.
— Страж, отойди от неё.
Это уже был приказ. Спокойный, но оттого лишь более веский.
Пусто, как пусто…
— Владыка, я прошу: возьмём девчушку с собой.
— Ты, — с намёком на удивление сказал Пламенный, — хочешь использовать право Просьбы? Ради вот этой?
Следом за собаками из зарослей вывалился приземистый, широкий мужик в варварской одёже, косматый, заросший буйной светлой бородой. При виде тастара он прокатился ещё шагов на десять вперёд, заорал что-то визгливое, бестолково размахивая тяжёлым тесаком. Взгляд его, то и дело перескакивающий на голую беглянку у ног Эхагеса, сверкал почти равными по силе страхом и ненавистью.
"Нет, она не рабыня. Рабынь не боятся так отчаянно".
Мысль мелькнула и пропала.
— Да, Владыка. Её ждёт смерть, если оставить её вот этому… этим.
Народу прибывало. Сплошь мужики вроде первого, такие же широкие, бородатые, яростно багровые. Не люди, а родня медведей-шатунов.
— Что ж — твоё право.
На глазах у родни медведей три фигуры — сжавшаяся белая, тёмно-серая и высоченная чёрная, нечеловеческая, растаяли в воздухе, словно наваждение.
И как ни крутились собаки, как ни шарили по земле глаза людей, следов их так и не нашли.
Если смотреть с верхней галереи, можно выбирать время. Правда, пока это получалось не всегда: нужной точности в контроле омм-гармонии не хватало. И, выйдя на верхнюю галерею днём, не всегда можно было окунуться в звёздную тьму, как выйдя ночью — подставить кожу ласке вечного солнца над слоем облаков. А ещё труднее здесь было посмотреть на сумерки, на смену частей малого цикла. Только один раз получилось застать восход, ало-розовый, полный тихой тайны, да и то скорее случайно. В тот раз она задержалась на верхней галерее на целых три часа, пытаясь хоть чуть приблизиться к дымчатой тайне рассвета; и ушла, ничего не добившись и потом ни разу не сумев выйти в нужный момент снова. Быть может, если бы добилась — сумела бы?..
Если смотреть со средней галереи, внизу будут не облака, а лес. Настоящий, живой. На него можно смотреть долго. Можно слушать шёпот листьев под ветром, вдыхать чистый, сглаженный близостью неба запах зелёного моря. Вот только даже мысль о том, чтобы шагнуть за край и опуститься в этот лес для более близкого знакомства, вызывала неприятие. А уж если пытаться превратить мысль в намерение… Нет, со средней галереи лучше всего просто смотреть, не претендуя на большее. Если таково было неизменное правило — что ж, она уже вышла из поры роста и была с ним согласна.
Войти в лес можно с нижней галереи. Которая даже и не галерея, а скорее большая, накрытая козырьком, поскрипывающая под ногами тёплым настилом веранда. В кольце матовых перил, ограждающих её, есть два разрыва. Две лестницы. Сойди по ним, вступи в лес, который охотно примет тебя… потом иди день и ночь в одном направлении, и новую ночь, и новый день… лес будет преграждать путь ручейками, болотцами, буреломом и оврагами, он будет разным, а потому неожиданным… Но тихо будет в нём, ни зверей, ни птиц не встретится идущему, а если повернёт он назад, то спустя самое большее десять минут впереди станет различим сквозь тихо редеющую сетку ветвей тёмный каменный силуэт, возносящийся вверх ровно на семьдесят три локтя, опоясанный понизу, поверху и в середине кольцами трёх галерей.
Помимо галерей, открывающих внешнее, немало интересного было внутри самой башни. Но, верно, недаром её назвали Раскрытой: именно на галереях проводила она почти всё свободное время, увлечённая монотонными загадками недоступного мира снаружи.
Вчера она стояла на средней галерее, пока не стала ощущать своё тело как едва задетую струну где-то далеко-далеко. Посвист ветра в гранях камней и трески, идущие из их глубины, шорох частиц воздуха, какие-то медленные вздохи, втекающие из нижних бездн… Наверно, её — такую — просто не заметили. А она смогла услышать шаги. Одни и другие, знакомые, но в тот момент говорившие особенно много.
Потом она услышала слова. Богатый, родной голос:
— Может, весна придёт
и на цветы её
бабочки прилетят?
Приглашение к началу беседы. Древнее, отточенное искусство таос, диалога-импровизации. Стихи, скованные лишь ритмом, что задаёт настроение, и наполненные словами, дрожащими в узлах смысловых линий.
Раскрытая вышла из поры роста, но из этих линий улавливала едва половину.
— Ветер принёс мне весть
и на пороге пал.
Затихли вершины.
Ответ на первое трёхстишие ломал всё: направление, рисунок смысла, ритм.
— Солнце должно сиять
даже сквозь облака.
Вечен круговорот.
Неясности умножились. Первый голос попытался связать свою, заданную в приглашении тему с вихрем тем второго трёхстишия. Успех был неполон, а гармония — далека.
— Ветер принёс мне дым.
На языке горчит.
Мотыльки!.. И пламя.
Второй голос словно не заметил попыток примирения. Рефрен, хотя и не замкнутый, с особой твёрдостью подчёркивал стоящее за этим намерение.
— Нет! Прогони печаль!
Звон струны на грани обрыва.
И ответ: не дарящий надежду и гармонию — скорее выплёскивающий их невозможность: