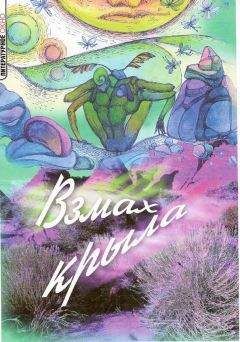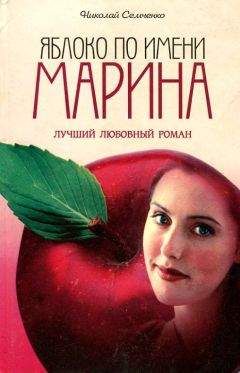— Ветер принёс мне дым.
На языке горчит.
Мотыльки!.. И пламя.
Второй голос словно не заметил попыток примирения. Рефрен, хотя и не замкнутый, с особой твёрдостью подчёркивал стоящее за этим намерение.
— Нет! Прогони печаль!
Звон струны на грани обрыва.
И ответ: не дарящий надежду и гармонию — скорее выплёскивающий их невозможность:
— С чем я останусь?
Минутное молчание. Посвист ветра в гранях камней и трески, идущие из их глубины. Шорох частиц воздуха, какие-то медленные вздохи и громы — голоса бездн…
Шаги уходящих с галереи. Конец таоса — и начало памяти.
Раскрытая осталась.
О чём спорили Тающая и Беспокойный?
Таос начался вполне понятно. Приход весны — знак рождающегося времени, связь с внешним как возможность. В том лесу, куда ведут лестницы с нижней галереи, бабочки могут сесть на цветы, прилетев из мира жизни, только если будет снята печать с башни. Вот что предлагала Тающая, вот от чего надо отталкиваться.
"Ветер принёс мне весть…" Что ж, отец — мастер Порывов, и это, быть может, надо понимать буквально. А затем — отказ, остановка. И тревожный ритм.
Мать настаивает. Настолько, что едва не отступает от внутренней красоты стиха, беря в союзники самоочевидные понятия. "Вечен круговорот…" Разумеется! Каким же ещё ему быть? Но даже трюизм подчинён гармонии и не режет слух.
А вот дальше понятного меньше. Рефрен… незамкнутый рефрен… настойчивость, обычно не свойственная Беспокойному, и поэтому первая строка словно кричит: я знаю, я точно знаю! Но дым? Горечь? Пламя, сжигающее крылья неосторожным весенним гостям?.. Или же это — не одно лишь иносказание, и слова отца допускают прямую трактовку?..
Два одностишия в финале проникнуты глубоко личным. Эти слова сказаны одним ааль-со для другого, и только для него. Намёки на прошлое, когда её, Раскрытой, ещё не было. Понять это без объяснений нечего и надеяться.
Но если так резко сменён контекст — значит, мать согласилась.
Башня не будет распечатана.
Город бурлил. Внешне это проявлялось не слишком: десятилетия подражания бесстрастию тастаров отучили их подданных демонстрировать чувства даже по серьёзным поводам. Однако тайное напряжение всё же прорывалось в многозначительных мелочах: торопливости прохожих, скученности на главных улицах и едва ли не могильной тишине в переулках, выросшем числе заколоченных, словно ослепших окон и запертых дверей. Цены в ювелирных мастерских, без того никогда не щадившие покупателей, окончательно оторвались от земли. Но люди, не уверенные в завтрашнем дне, жаждущие убраться от неприятностей до подхода Агиллари, сохранив хотя бы часть нажитого состояния, охотно скупали драгоценности. (А заодно и все средства транспорта, начиная от конных повозок и кончая лодками — тоже вздорожавшими куда как круто). Повальное бегство пока не началось и вряд ли должно было начаться, но многие уже поглядывали на юг и юго-восток с застывшими лицами, тут же переводя взгляд в прямо противоположную сторону.
Неприметной наружности человек, идя по улицам Столицы, словно вообще не глядел по сторонам; но замечал он гораздо больше, чем испуганные обыватели. Замечал и делал выводы. Не из необходимости, просто по привычке. А на него никто не обращал излишне пристального внимания. Хотя если бы даже нашёлся кто-то особо бдительный… Немногие сумели бы незаметно проследить за этим человеком. Те же, кто, не умея, взялись за слежку — быстро пожалели бы о своей самонадеянности.
Мало было в Столице людей более опасных, чем этот среднего роста, среднего сложения, средне одетый и скромно держащий себя мужчина.
Свернув к старому кирпичному дому, он открыл боковую дверь, вошёл, быстрым шагом миновал коридор с одной-единственной дверью около середины. Когда он добрался до поворота, запирающая тупик стена уже тихо приоткрыла тёмный, ведущий вниз проход. Он нырнул в него, не раздумывая, и стена позади встала на место, погружая ступени во мрак. Нимало не смущённый, человек спустился до конца и повернул направо, иногда касаясь пальцами руки чуть влажной стены и считая сделанные шаги в уме.
Как и когда он выбрался на поверхность, не имеет большого значения. Важно лишь то, что некоторое время спустя он оказался в некой беседке некоего сада, разбитого в немаленьком дворе особняка, от парадных ворот которого до стен цитадели было не больше двух минут пешего хода.
В беседке его ждали трое. Все — мужчины, все — заметно старше среднего возраста. Один почти болезненно худой, другой, напротив, излишне толстый, и третий, по виду самый старый, — просто упитанный. Что-то выдавало во всех троих привычку иметь в окружении по паре скромно услужливых созданий обоего пола. Однако в тот момент, когда неприметный вошёл к ним в беседку, в пределах видимости не было никого живого.
— День добрый, господа.
— Не сказал бы, — с недовольным видом заключил толстяк. — Для доброго дня в воздухе слишком уж пахнет палёным.
— Присаживайтесь, милейший рыцарь, — любезно предложил тощий. — Стол наш бедноват, конечно, но уж не побрезгуйте хотя бы вином.
— Спасибо, — Названный рыцарем сел за стол, даже не подумав взять с него что-либо. Хотя никто, пусть даже мельком взглянувший на изобилие, красующееся перед гостем троицы, не принял бы слова тощего о бедности всерьёз.
Некоторое время все молчали, глядя друг на друга.
— Похоже, тастарам конец, — бухнул толстяк. — И слава духам!
— Я бы не торопился славить за это кого-либо, — раздумчиво заметил гость. — Нет, когда такое кричит голытьба, это понятно: опущенным на самое дно при любых переменах нечего терять, кроме жизни. Которой они не особенно дорожат. Но вы?
— Людьми должны править люди!
— Простите, вам какая разница, кто правит? Королём не стать никому из нас, во всём прочем мы и так не обделены. Какой резон поддерживать именно принца Агиллари?
— Он — законный король. Он — человек. И за ним сейчас сила. Иных резонов мне не надо!
— Что ж, понятная позиция.
— А вы, рыцарь? — мягко вклинился тощий. — Вы тоже считаете, что за Агиллари сила?
— В этом я вполне уверен. Чёрных и Серых я изучил хорошо. В качестве правителей они достойны всяческого уважения… во всяком случае, ничего не предпринимать по поводу запаха палёного в воздухе — не их стиль. Если они бездействуют, то лишь от невозможности хоть что-то сделать с принцем и его блохастой армией.
После этой констатации гость снова умолк. Ударение на "принцем" и "армией" не ускользнуло от тонкого до намёков слуха собеседников. Хотя толстяк мог не заметить этого.