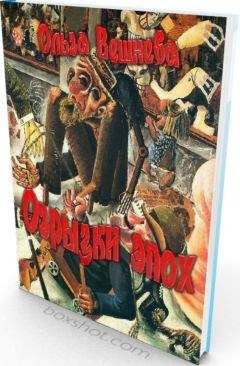Грицко отпрянул и прижался к развилке засохшего сука, давая дорогу воинам, но они предпочли остаться внизу, не лазать без важного повода по деревьям.
— Сколь замечательна, иль напротив, позорна, была шушакова кончина, без разницы нам, — степенно ответил Фома. — А испытаньев Барчонку прибавить бы надобно. Не то заскучаем без его потех. Пущай городскую девку он высушит, точно воблу. Да девку поблагороднее, понежнее. А мы за ним присмотрим. Как вам моя затея, братцы?
— Затея хороша, Фома, — одобрил Ахтымбан. — Пускай идет Барчонок в город. Но прежде надо бы ему поголодать с недельку, чтоб точно девку высушить, из жалости не отпустить.
— Да, надо бы его проверить… как он к людям… не горит ли к ним еще его душа чистейшею любовью. Так будет видно, с нами он, иль против нас, — рассудительно произнесла Людмила.
Сбросив «высушенного» шушака с сосны, я неторопливо, осторожно спустился на лужайку.
— Мне будет тяжело, — подумал я вслух, отойдя в сторонку от вампиров.
— А мне, как ты мыслишь, легко было убивать любимого коня? — доверительно шепнул догнавший меня Ахтымбан. — Он был мне и другом, и братом, и соратником в бою. Я уваженьем хана так не дорожил, как его жизнью… Но мне пришлось…
Он искоса заглянул в мои глаза и опустил голову, больше не поворачиваясь ко мне. Размытые ветром пряди волос играли на его лице, скрывая взгляд. Пройдя рядом несколько шагов, ордынец резко повернул направо и ушел в лес.
«А человека, что же, ему совсем не жалко было?» — с легким недоумением я смотрел на сомкнувшиеся за ним кусты. — «Впрочем, что с него взять. Он был степным коршуном, налетающим и убивающим всякое созданье, что попадется в когти. А я? Смогу ли я загрызть девицу? Конечно нет, а значит, настало время уничтожить негодяев. Близится час отмщения».
Глава 6. ОХОТА В ГОРОДЕ N
В легких полупрозрачных сумерках, чуть желтоватых от просвечивавшего сквозь облачный полог вечернего солнца, я шел по бульвару города N — уютного, тихого уездного городка, скрывавшего от меня свое имя с упрямством случайно встреченной на улице прекрасной скромницы. Я не пропускал ни одной вывески на длинных двухэтажных домах из красного кирпича, выкрашенных в желтый цвет, с белыми наличниками. Но если на рекламном плакате вашего времени под жирной кричащей надписью: «Вселенная штукатурки!» порой можно увидеть название не только улицы, где находится лавчонка, в которую втиснута оная вселенная, но и города, то в мое время на вывесках часто не указывали и улиц. Благо находились вывески не за «15 км», а над той самой лавкой, куда они приглашали покупателей.
«Сахарные пончики Федора Бирюли», «Приятные мелочи для милых дам», «Салон букетов»… Я останавливался возле красиво оформленных витрин лишь для того, чтобы укрыться от любопытных взглядов прохожих, и от их резких непривычных запахов — естественных и искусственных, раздражавших чуткий нос.
В собственное тусклое отражение на стекле я старался не всматриваться. Для моих глаз еще было слишком светло, и всякое мерцание в тени ударяло по ним, словно плеть. Маленькие поля фетрового цилиндра посредственно защищали глаза от света. Я был голоден до одури, это была еще одна причина не смотреть на живую составляющую городского пейзажа. А вот не слышать ее я не мог. Спешащие по домам чиновники проскакивали мимо с адским топотом, словно вместо скособоченных башмаков у них на ногах были свиные копытца; прогуливающиеся под ручку дамы и господа, шелестя платьями и скрипя новенькими кожаными туфлями, семенили, притормаживая возле витрин; звонко клацали при ходьбе подметками сапогов военные и постовые; с кряхтением ковыляли старички; и видавшие виды экипажи, запряженные усталыми извозчичьими лошадьми, с грохотом неслись по гулкой мостовой.
Я же двигался почти бесшумно, будто скользил по неровному тротуару, и старался немного притопывать, если мимо проходил человек.
Один из любимейших моих нарядов, немного ушитый Моней, сидел отлично, только сюртук был слегка великоват, и потому я не застегивал его, словно изнывал от жары. На самом деле меня пробивал озноб. Холодные руки не согревались даже в плотных перчатках.
Взятый след вывел меня на простор. Я прошел мимо величественного конного памятника непонятно кому — ярко отсвечивала табличка на гранитном постаменте. Но по мундиру это был человек военный.
Воздушный след, по которому я шел, принадлежал, как мне думалось, перевертному волку. Он был нежнее, тоньше следов дворняжек, и потому я особо выделил его. Точно не зная, как пахнут оборотни, я понимал, что хоть один из них в таком большом городе непременно должен быть. Как должна где-то здесь находиться и охотничья контора.
Я твердо решил сдаться сам, а заодно и сдать охотникам стаю. Надеялся, что они меня выслушают, и может, даже немного попытают для получения важных сведений, прежде чем убьют. Устал я находиться рядом с коршунами, мне с ними не по пути, и вообще, не для меня этот путь — всегда ступать по чьему — то следу, выискивать добычу. Я хотел использовать последний шанс воссоединиться со своими близкими — пусть даже на том свете.
С бульвара я свернул в тесную улочку. На ней не было никого, кроме старушки в коричневом салопе. Обгоняя ее, я услышал злобный лай, и повернулся, оскалившись. Глаза вспыхнули в тени, из горла вырвалось рычание. Белая лохматая болонка на руках у старушки взвизгнула и умолкла, а ее хозяйка с испуганным стоном вжалась в облупленную стену, вытаращив глаза, и стала креститься, беззвучно шевеля губами.
Я отпрянул и выбежал на соседнюю улицу. Силясь вернуть контроль над собой, сжал кулаки и поранил когтями ладони.
Укрывшись в безлюдном темном тупике, я стоял, захлебываясь воздухом и наблюдая, как медленно капает на тротуар моя кровь, терзая аппетитным запахом все мое ненавистное естество. «Только бы никто не забрел сюда, только бы не приблизился ко мне», — я почти молился. Раны зарастали долго — минуты две — три.
Я вытер руки дырявыми перчатками, бросил их в угол, отошел подальше и постарался привести дыхание в норму, убрать клыки и когти, умерить свет глаз. Внезапно среди гудящих на бульваре людских голосов я различил знакомый голос — мелодичный, но до боли в сердце отвратительный. Принадлежал он Елене Павловне Бибиковой, падчерице Бенкендорфа.
Шеф жандармов заботился о падчерицах, как о собственных дочерях, и очень дорожил ими. Представляя, как Александр Христофорович весь в слезах причитает, заламывая руки, над бездыханной Еленой, на шее которой зияет ужасная рваная рана, я дьявольски заулыбался и негромко зашипел, стиснув мощные челюсти.