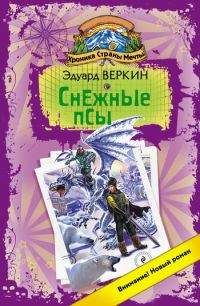— Нет. Глобальная тайна — она…
Но Перец больше не захотел говорить на серьезные темы. Такая вот философия.
И вот едва я увидел, как из сетей вывернулся Тытырин, то вдруг подумал: наверное, в том, что желания живут сами по себе, есть истина.
Я ушел к себе. Спустился в подвал, включил станок и поработал немножко. Потом спать отправился, предварительно хорошо вымыв руки.
На следующий день меня опять разбудил Перец. Зачастил, рыцарь недобитого образа…
— Подъем! — заорал. — Подъем! У меня к тебе дело! Восстань, о, боец могучий, идем на войну!
— На какую войну?
Вылезать из мешка совсем не улыбалось. В мешке было тепло, а в комнате моей холодно, керосинка опять замерзла.
— Жизнь налаживается, — подмигнул мне Перец и извлек из-под полушубка пузырек. — Смотри.
В пузырьке была жидкость. Немного, наверное, на пару пальцев всего. Перец поднес пузырек к окну, на жидкость попал луч. Маленький взрыв. Пузырек вспыхнул… Трудно словами объяснить. Если бы алмаз был жидким, наверное, он сиял бы так.
— Слезы дракона. — Перец снова встряхнул пузырек, повторив алмазный взрыв. — Встречаются гораздо реже, чем слезы крокодила. Излечивают от большинства известных болезней, улучшают тонус мышц, и вообще. Даже волосы растут!
— На ушах?
— Почему на ушах? На голове.
— Неужели Тытырин — настоящий поэт?
Я встал, подпрыгнул, уцепился за перекладину, стал выворачиваться из спальника.
— Да ну, какой он поэт… — Перец осматривал мою комнату. — Он, к сожалению, даже не плохой поэт, он вообще не поэт.
— Откуда же тогда слезы?
Я спрыгнул на пол, быстро забрался в меховые штаны, в полушубок, в унты.
— Неужели Хорив разрыдался от ужаса? — Я стал искать шапку, но шапка куда-то задевалась. — Тогда такими слезами, наверное, нельзя лечиться, они, наверное, яд…
Перец ткнул пальцем пламя лампы — оно рассыпалось.
— Все в порядке, слезы правильные, — успокоил он меня и поведал историю выжимания слез из горына.
Когда я ушел, Перец объяснил Тытырину, что от него требуется. Немного в общем-то требовалось: вспомнить свое стихотворение, которое больше всего давит на психику, какое-нибудь послезоточивее. Тытырин ответил, что с этим все в порядке: его портфолио включает восемь лирических стихотворений и двенадцать стихотворений гражданской лирики, которые могут выжать слезу не то что у дракона, а даже из камня. Вопрос в другом — поймет ли дракон вибрирующий нерв его лиры?
Перец ответил, что бояться непонимания не стоит, понимание тут совершенно неважно, поскольку каждый дракон — этакий маленький Зоил-автомат[1], который отличает подлинное от всего остального рефлекторно, как собака Павлова. Стоит ему услышать хорошие, по-настоящему трогательные строки, как из его глаз тут же начинают проистекать крупные, размером с вишню, слезы.
Тытырин успокоился и сказал, что тогда все в порядке, что можно звать дракона, он его поразит. И пусть приготовят солидную емкость, поскольку дракон не будет плакать — дракон будет рыдать, как пенсионерка перед телеэкраном в понедельник вечером.
— Давайте сюда дракона! — потребовал Тытырин. — Ведите ко мне дракона!
Тут Перец его немного вразумил, и Тытырин направился к лежкам сам.
Щек и Кий спят в больших норах, отделяющихся от основной пещеры. Их даже видно, когда проходишь мимо. Место они выбрали совсем не случайно, а для того, чтобы выпрашивать подачки: Яша много раз туда-сюда по делам пробегает, вот они к нему по пути и пристают: то лапу выставят, то морду, то скулят. Яша жалостливый, всегда попрошайкам что-нибудь да подкидывает. Пряник или банан сушеный. У Яши много чего водится, он тоже склады здешние потрошит потихоньку. Иногда даже шоколадка вымогателям перепадает.
А Хорив не попрошайничает. Он вообще не любит всякой суеты, поэтому и пещеру себе выбрал самую дальнюю, чтобы перед ним не мельтешили. Чтобы попасть к нему, надо долго пробираться по узкому ходу, затем этот ход расширяется, и выходишь к озеру. Тут уже можно фонари гасить, потому что возле озера светло. Такой синий свет из него выходит, оттого что в озере какие-то мелкие рачки живут, которые светятся. Получается очень красиво. Из озера поднимается свет, над озером на возвышении лежит Хорив и размышляет. Ну, размышляет он или не размышляет, понять нельзя, но лежит всегда с задумчивой мордой, это точно. И глаза светятся: один синим, другой зеленым.
Так вот Перец погнал поэта к Хориву. Тытырин шагал с достоинством, будто Кунсткамеру намеревался осматривать. А когда проходил мимо Щека, тот высунул клешню, типа, дай ириску. Ну, Тытырин как увидел драконью лапу, так решил, что его сейчас растерзывать будут, завизжал и на стену взобрался. Стена там напротив лежек почти отвесная, а он взобрался. Удивительные таланты подчас раскрываются в обычном литераторе, удивительные… Перцу потом пришлось отдирать его с помощью палки.
Зато к месту обитания Хорива Тытырин явился уже полностью дисциплинированным. Ни движений лишних, ни расхлябанности, в глазах почтительность.
Хорив на Тытырина никак не прореагировал, как лежал, так и продолжал лежать. Только глаза приоткрыл немножко. Перец ткнул поэта в затылок, тот начал читать свои произведения. Читал, читал, да все без толку, Хорив как лежал, так и лежал.
Зато рачки в озере зашевелились. То ли испугались, то ли еще чего, но задвигались, а свечение их интенсивнее, правда, из приятно-голубого оттенка перешло в настороженно фиолетовый.
Тытырин продолжал читать. Про согбенные осины, кривые избы и сирые пажити, про утраты разные, про то, как тяжело на белом свете жить. Читал, читал и дочитался до того, что Хорив даже зевнул. Громко.
Тут Перец понял, что эти чтения если к чему и приведут, то только к потере времени, и прекратил их, снова ткнув Тытырина в шею.
— Понимания нет, — обиженным шепотом сказал Тытырин. — Ничего нельзя поделать, конфликт культур…
Перец вздохнул. И тут ему в голову пришла идея. Он взял Тытырина за плечи, поставил его спиной к пруду и велел сделать величественное лицо. После чего сказал: «Ладно, Пастернак, получи!» — и ткнул Тытырина кулаком в скулу. Тот, конечно же, свалился в водоем, поднял кучу брызг, заорал, что он совсем не умеет плавать, после чего быстро подплыл к берегу и выбрался на камни. Перец сказал, что вид он при этом имел весьма чудной — рачки, взволнованные всплеском, бросились на шум и покрыли поэта густой шевелящейся мантией. Так что теперь Тытырин светился бледно-голубым, как юное привидение. Кроме того, рачки ползали по тытыринскому телу, что сообщало голубому сиянию жизни и увеличивало сходство литератора с призраком.