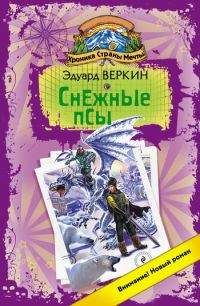На песке лицом вниз лежал Ракитченко, обряженный в камуфляжный костюм. Спал, раскинув руки и вцепившись пальцами в песок. Так, наверное, и должны спать настоящие поэты — вцепившись в мать сыру землю. Для вдохновения.
Перец кивнул. Щек набрал воздуха и выдохнул в сторону Ракитченко. Но не пламенем, а просто воздухом. Чуть подогретым. Вернее, даже горячим. Вернее, даже очень горячим (два выдоха — и яйцо вкрутую). Так что поэт перестал обниматься с песком и сел. Сел ко мне боком, к Щеку передом. Ну, Щек, само собой, сделал зубы, стрельнул глазом… В общем, полный репертуар продемонстрировал.
Ни один поэт, даже самый разнузданный, такого не перенесет. И Ракитченко не перенес — заорал и кинулся. Куда кинулся, он, конечно, не поглядел, просто от глаз и зубов. Перец правильно рассчитал эффект. Вообще-то эффект всегда одинаковый — бегут.
Поэт Ракитченко спасался. И орал. Даже не орал, а как-то гудел, будто проглотил сирену, а она у него уже внутри испортилась и выдавала теперь не тревожный рев, а какое-то протяжное блеянье. Ракитченко пробежал совсем немного — врезался в сети, запутался, покатился по песку. Перец тут же свистнул, Хорив дернул вверх, и через секунду никакого поэта на берегу не осталось.
— Вот и все, — усмехнулся Перец. — Видишь, как все легко. С поэтами легко, как с китайцами. Сегодня же вечером мы тебя вылечим. Кстати, как здоровье?
— Нормально, — ответил я.
Но Перец не поверил, подошел, велел оттянуть веки, долго смотрел.
— Жить будешь, — выдал Перец диагноз. — Но недолго.
После чего принялся перетряхивать скарб поэта Ракитченко. Небогатый, крайне даже скудный (если бы Ракитченко вздумал заложить имущество, то выручить ему много не удалось бы) — нож-ложку, миску-кружку, книжку-раскладушку. Много книжек Перец вытряхнул из сурового мешка, одно издание показалось мне знакомым. Я наклонился и подобрал. К моему удивлению, это был действительно уже известный мне труд — поэма «Шагреневый трактор» стихотворца Снегиря. Перец презрительно пнул литературу:
— Негусто…
И поделил имущество. Себе взял нож-ложку и миску-кружку, мне оставил культуру. Я подивился его немотивированной скаредности — зачем Перцу нож-ложка, когда у него в распоряжении целый город? Но спорить не стал, привычка — вторая натура.
— Забери макулатуру, — велел Перец.
— Зачем?
— Затем, что Ракитченко ее хранил. А значит, что книжки могут ему понадобиться. Может, они вызывают у него пароксизм вдохновения? Кий!
Кий с интересом расковыривал кострище, извлекал из углей картофельные кожурки. Морда у него была перемазана золой, отчего дракон выглядел смешно и нестрашно. Кий вообще любит в мусоре разном ковыряться. Я пытался отучить, намазывал мусорное ведро горчицей, однако ему никакая горчица нипочем оказалась, даже не чихнул.
Сейчас Кий Перца не услышал, и тогда Перец запустил в него камнем. Кий и камень не услышал. Тогда я сказал негромко:
— Смир-рна.
Кий бросил свои объедки и стал «смирно». Крылья вверх, лапа вперед, глаза навыкат и блестят. Все как полагается. Щек, полировавший у воды когти, тоже замер.
Перец презрительно хмыкнул и направился к своему горыну. Я дособирал книжки, рассовал по карманам, подошел к Щеку. Перец пытался устроиться в седле — то справа пытался запрыгнуть, то слева пробовал залезть. Но поскольку горын стоял «смирно», ни то ни другое не получалось, потому что крылья мешали. Не Перца крылья, конечно, а горына.
Перец нервничал, пинал Кия сапогом в брюхо и грозился заморить голодом, однако Кий был как деревянный.
— Ну? — Перец нервно повернулся ко мне.
— Вольно, — разрешил я.
Кий опустил лапу, сложил крылья, лег.
Перец взгромоздился в седло и теперь пристегивался, поминая недобрым словом горынов, зоопсихологию, психоанализ и другие науки обществоведческого цикла. Откуда-то сверху слышались обморочные вопли Ракитченко. Ничего, поорет-поорет и привыкнет. Все привыкают. Может, стихи потом еще напишет. Под впечатлением.
Упал лапоть. Самодельный. Грубой работы. Лапоть выглядел как-то жалко. На меня даже какая-то сентиментальность навалилась непотребная, пожалел я поэта вдруг, хотя вообще-то поэтов ненавижу, один Перец чего стоит.
Перец тоже заметил лапоть и тоже посмотрел вверх.
Я забрался в седло, пристегнулся. Спросил:
— Опять над облаками пойдем?
— Опять, — кивнул Перец.
После чего ткнул Кия в бока пятками. А я не ткнул, я зубом цыкнул, два раза, что означало «взлет».
Обратный путь показался мне короче. Это, наверное, оттого, что я все время спал. А проснулся потому, что резко похолодало. В сей раз мы не падали, медленно опускались. Выглянули из-за облаков. Город не изменился. А чего ему было меняться?
Потом возле норы мы долго ругались, кому волочь Ракитченко внутрь. В конце концов мне надоело ругаться, и потащил я. Ракитченко был нетяжелый, к тому же возле входа в нору домовитый Яша припас тележку, сделанную из детской коляски. Я сгрузил Ракитченко на тележку и покатил вниз.
Перец остался у входа, сказал, что сейчас подойдет. Прогнал. Наверняка будет любоваться своим новым ножом-ложкой. Что за герой мне попался? Мелкий клептоман какой-то…
Я спускался в пещеру. Становилось теплее и темнее, встречный ветер гнал запах каши и сушеных грибов, и от этого запаха мне снова захотелось спать.
Яша Автохтон как всегда возился возле полевых кухонь и имел счастливый вид. У него всегда такой вид, Яша — наивное существо. Перец вроде когда-то жизнь ему спас, и теперь Яша и все его потомки у него в услужении будут, что наполнит их жизнь смыслом.
Я свалил поэта на кучу с углем.
— Припасы? — осведомился Яша.
— Угу. Освободи его от сетей, он нам скоро понадобится.
— Варить будем? — совершенно спокойно спросил Яша.
Завернутый в сети замычал.
— Сначала нафаршируем. Гречневой кашей, — так же спокойно ответил я.
А потом вдруг подумал, что хватит все время шутить. Я все время шучу и шучу, а на самом деле ничего смешного-то и нет.
— Ладно, — сказал я, — разверни его просто, варить не будем.
— Слушаю, второй сагиб, — кивнул Яша.
Второй сагиб! Вот так всегда. А кто сказал, что я второй? Кто? Может, я, наоборот, первый?
Яша выхватил из-за пояса кривой кинжал и быстро, с виртуозностью опытного торговца рыбой, разрезал сети. На уголь съехал Ракитченко. Отряхнулся и предстал.
Как-то он изменился. Голова изменилась. Была сейчас лысая, а посередине оселедец. Длинный довольно. Раньше, насколько я помнил, у Ракитченко оселедца не было. Видимо, отрос. Поэт изменил имидж.
Я щелкнул пальцами, и Яша предупредительно вручил мне в руки миску с кашей. Сунул ее Ракитченко, тот посмотрел на меня с тупизной. И я на него с тупизной. Насколько я помнил, Ракитченко был повыше ростом. И пошире в плечах. А этот был мелким. Вряд ли за время, прошедшее с поэтического дристажа, он так стоптался. И оселедец еще…