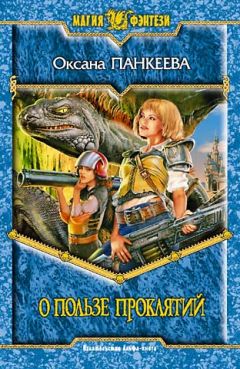— Сколько же фанги надо было сожрать, чтобы такое написать? — восхитился он, поскольку непонятный «Пинк Флойд» почему-то вызывал у него ассоциации именно с травкой. — Полную горсть, наверное.
— А что такое фанга? — тут же спросила девушка. И надо было ей спрашивать? Не могла так догадаться? И он тоже, не мог на словах объяснить? Непременно надо было достать, показать, еще и объяснить, как ее едят. Как будто они мало выпили… Как будто недостаточно было этой безумной музыки… Как будто он и без того не разрывался от желания…
— А это надо жевать или глотать? — спросила Ольга, катая по ладони шарик фанги и с любопытством его рассматривая. — Или их надо горстями употреблять?
— Да ты что! — спохватился он. — По одному. Тебе и половинки хватит, если хочешь. А от горсти можно навеки расстаться с этим миром.
— Хочу, — решительно сказала она, и они разделили пополам шарик, после чего последние несмелые проблески здравого смысла покинули Кантора, смытые волной сладкого забвения. Исчезли дурацкие сомнения, пропало удивление и недоверие к реальности происходящего, и само происходящее стало казаться естественным и правильным. Последняя более-менее осознанная мысль, посетившая его, вообще ему, кажется, не принадлежала, а была очередным советом внутреннего голоса: «Не торопись! Только не торопись!»
Он посадил ее на колени и запустил руки под свитер, в мягкое гладкое тепло. Она не носила ни корсета, ни рубашки, и под свитером было только тело, тоненькое, изящное, живое. Оно отзывалось на ласку легко и естественно, чуть вздрагивая от каждого прикосновения… О небо, как же это восхитительно — упругое женское тело в объятиях, нежная кожа под кончиками пальцев, эта сладкая дрожь желания… Он наклонил ее ближе к себе и нашел ее губы, одновременно скользя руками все выше, пока не наткнулся на маленькие упругие груди, совсем маленькие пологие холмики, легко умещавшиеся в ладони. Девочка моя, да кто тебе сказал такую глупость? Как это — нет? Где же она плоская? Что бы они понимали в женских прелестях, ценители долбаные…
Ее руки, лежавшие у него на плечах, казалось, обжигали сквозь ткань рубашки. А когда они зашевелились и скользнули за ворот, распахивая его и опускаясь на грудь, он не выдержал и застонал, напрягаясь, как струна.
— Сними, — задыхаясь, сказал он, дернув ее за свитер, и стал спешно сдирать с себя рубашку, чтобы прижаться к ней, слиться в объятиях, каждой клеточкой кожи ощутить живое прикосновение женского тела.
— Может, сразу переберемся на кровать? — предложила она, восхищенно любуясь его обнаженным торсом. — Все равно ведь придется.
— Да… — простонал он и, не в силах удержаться, припал губами к маленьким твердым соскам.
Ах, женщины… Как же я обходился без вас эти пять лет? Как я не умер за это время? Разве можно жить без ваших ласковых рук, нежных губ, без ваших глаз, чуть тронутых безумием страсти, без вашей главной тайны, скрытой за грубой тканью?
Она развязала шнурок, которым были стянуты его волосы, и сказала, что так красиво. Может быть, но ведь мешать будут… На кой они ему, в самом деле, такие длинные? У нее и то короче… Расплети свои косички, пусть тоже будет красиво. Вот так, расплетай, а я буду целовать тебя везде, где смогу достать…. Да, на кровать… конечно… Можно бы и в кресле, но раз дама желает… И зачем ты носишь эти косички, у тебя такие чудесные волосы… и тело… и вся ты… Кожа твоя нежнее хинского шелка, коснувшись ее губами, невозможно оторваться, как жаль, что у меня только одна пара губ… А как вздрагивают тугие вишенки твоих сосков, когда их касаешься языком, как легко поддаются твои колени, когда их разводишь в стороны… Твои руки, ласковые и зовущие… вот только почему они такие суматошные, словно не знают, что делать? Либо твои прежние мужчины были полные идиоты, либо их просто было слишком мало, чтобы успеть научиться… Но это не важно, правда, совершенно не важно… А уж что у тебя там, под этими штанами… стоит только представить, и становится невозможно сдержать стон…
Он торопливо выбрался из штанов, спихнул их с кровати и вдруг остановился, застигнутый врасплох ее смехом, которого совершенно не ожидал и не представлял себе, что вообще могло быть смешного в настоящем моменте.
— Почему ты смеешься?
— Ничего… — захихикала она, протягивая к нему руки. — Это у тебя трусы?
— Что в них смешного?
— Я никогда не видела, какие у вас мужские трусы. А зачем они такие длинные?
— А у вас какие?
Она сказала какие. Интересно… Возможно, это не лишено смысла, особенно летом… Да ну их, эти трусы, на кой они вообще нужны, когда тут…
— Ух ты! Можно потрогать?
— Что за вопрос? Нужно. Свет будем гасить?
— Не надо. Мне нравится на тебя смотреть. Ты красивый.
— Скажешь тоже! А у тебя какие?
— Что?
— Ну… трусы, наверное… панталоны же под такие штаны не влезут.
— Сними и посмотри.
Дразнится она, что ли? Верхняя пуговица есть, а остальные где? Металлическая полоска из мелких звеньев… Нет, это действительно издевательство — в такой момент заставлять умирающего от страсти мужчину думать о технологии пошива одежды в сопредельных мирах!
— Это что, застежка?
— Ну да. Расстегивай. Или ты не умеешь?
— Знаешь, мне все доводилось снимать с женщин — и платья, и штаны, и хинские драпировки, даже доспехи, но такого я еще не видел.
— Потяни вниз.
— Ух ты!
— Нравится?
От одного вида этих… того, что она громко обозвала «трусиками», можно было сойти с ума на месте. Даже если ты не мистралиец. Две узкие полоски тонкой ткани и кружевной лоскуток, сквозь который все видно… И они черные!
— С ума сойти!
— Что ж, снимай.
— Жалко…
Тонкий скользкий шелк, прозрачное шершавое кружево, мягкие пушистые волосики, влажная горячая плоть…
Ах, женщины, что вы с нами делаете! Кружится голова, не хватает воздуха, сердце колотится бешеным галопом, гулко стучит кровь в висках. И темное небо за сжатыми веками взрывается ослепительными звездами, которые рассыпаются алмазными искорками и гаснут…
Когда угасла последняя искорка, он открыл глаза, все еще вздрагивая, и наткнулся на ее взгляд, изумленный и немного испуганный.
— Что с тобой? — встревоженно спросила она, убирая рассыпавшиеся волосы с его лица. — Ты плачешь?
И только тут он почувствовал, что по его щекам катятся слезы и задыхается он уже не от страсти, а от подступивших к горлу рыданий. Он уткнулся лицом в ее волосы и разрыдался, не в силах удержать все то, что пять лет носил в себе, в самом темном уголке души, на самом дне, и что прорвалось сейчас наружу горькими горячими слезами.