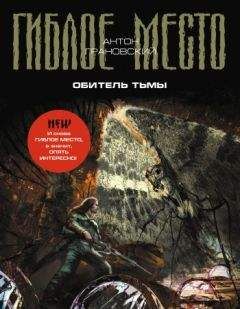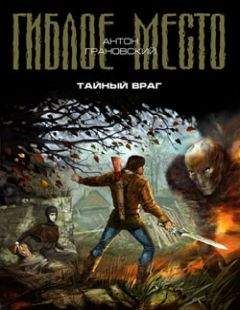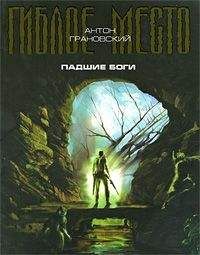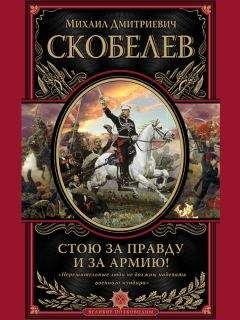– Верно, милый.
Поразмыслив немного, внук спросил:
– Бабушка, а может, Первоход вернулся в свою страну? Туда, откуда он приехал к нам много лет назад.
Старуха качнула головой:
– Вряд ли. Люди говорят, что Первоход не может вернуться, пока не выполнит все, что ему суждено судьбой. Вроде бы падшие боги оставили у него на предплечье зарубки, похожие на небольшие шрамы. Чем больше подвигов совершает Первоход, тем меньше остается зарубок. Только когда все шрамики исчезнут, Глеб Первоход сможет покинуть наше княжество и вернуться домой.
Спицы вновь замелькали в морщинистых руках бабушки.
Мальчик лежал на кровати и задумчиво смотрел на темный потолок, на котором плясали отблески лучины. Тени и блики складывались в чудные фигуры, и в фигурах этих мальчику чудился то оборотень, то упырь, а то и нечто такое, о чем ему никто и никогда не рассказывал, – страшное, крылатое, с огромной зубастой пастью.
Несколько секунд мальчик, как завороженный, смотрел на игру теней, потом с усилием отвел взгляд и вновь посмотрел на старуху.
– Бабушка, – тихо позвал он, – а откуда ты все это знаешь?
– Про Первохода?
– Да.
– Я, милый, два года проработала в княжьем тереме. Убирала горницы и опочивальни, мела двор, стирала белье. Много чего делала. Да ты, поди, и сам помнишь.
Мальчик зевнул. Потом кивнул головой и сонным голосом подтвердил:
– Да. Я помню. Тогда еще мамка с папкой были живы.
– Верно, милый.
– Бабушка, когда я вырасту большим, я тоже стану ходоком в места погиблые, – заявил мальчик. – Я буду убивать темных тварей и искать чудны́е вещи, как Глеб Первоход.
Сухота улыбнулась.
– Будешь, милый, обязательно будешь.
Мальчик хотел еще что-то сказать, но вдруг уставился на окно, и глаза его расширились от ужаса. С улицы, уткнув лицо в натянувшийся до предела бычий пузырь, на него кто-то смотрел.
– Ба… ба… – пробормотал мальчик, поднял руку и показал на окно.
Старая Сухота повернулась, но за мгновение до этого страшное лицо отпрянуло от окна. Не заметив ничего странного, старуха снова посмотрела на внука и недоуменно спросила:
– Что случилось, милый? Ты что-то увидел?
– Там кто-то был, – в ужасе вымолвил мальчик, таращась на окно.
Сухота улыбнулась, протянула морщинистую руку и успокаивающе погладила внука по коленке.
– Тебе почудилось, милый. Мне тоже всякое чудится… Все будет хорошо. Уж ты мне поверь.
Голос старухи звучал ласково и мягко, и мальчик успокоился. Он хотел продолжить разговор, но вместо этого раззевался и постепенно – под мерный, спокойный голос бабушки – задремал.
Дождавшись, пока внук уснет, Сухота отложила вязанье. Ее тоже клонило в сон, и противиться сну в столько поздний час было незачем.
Старуха поднялась с кресла и, прихрамывая, пошла к топчану, накрытому соломенным тюфяком и застеленному сверху чистым льняным покрывалом. Однако лечь Сухота не успела. Какой-то странный звук привлек ее внимание и заставил напрячь слух и насторожиться.
Звук повторился, и на этот раз Сухота его узнала. Это был негромкий, сухой кашель, словно кто-то прочищал горло. Старуха схватилась за сердце, и в этот момент в сенях тихо скрипнула дверь.
Старая Сухота посмотрела на внука, мирно спящего под теплым шерстяным одеялом, потом повернулась и, нахмурившись, решительно заковыляла к двери. Открыв дверь сенцов, она остановилась. С виду в морщинистом лице Сухоты ничего не изменилось, лишь глаза ее увлажнились от ужаса, а нижняя губа мелко задрожала. И было от чего. В сенях стояла худая, бледная женщина в грязном одеянии.
Старуха узнала ее сразу, но вымолвить имя смогла лишь со второй попытки.
– Зо… Зоряна? Зорюшка моя, ты ли это?
– Это я, мама.
Зоряна была бледна, так бледна, словно ее кожа отродясь не побывала на солнце. Волосы у нее были влажные и спутанные, и на вид – тонкие, как волосы младенца.
Старуха перевела взгляд с лица дочери на ее одежду и испуганно проговорила:
– На твоей одежде… кровь.
– Это не моя, – тихо отозвалась дочь.
– А чья?
Дверь снова отворилась, и в сени вошел мужчина. Одежда на нем была такая же окровавленная, как на Зоряне, а лицо, слегка испачканное кровью, было еще бледнее, чем у нее.
– Любомил! – ахнула старуха.
– Да, тещушка. Это я.
Старуха прижала к груди сморщенные руки.
– Как же это? Вы ведь утонули. В день первого покоса. Тебя, Любомил, сожгли в погребальном круге. Я была там. А тебя, Зорюшка…
Дочь сделала легкий останавливающий жест рукой и сипло перебила:
– Ты не рада, что мы вернулись, мама?
– Рада, но… – Голос старухи сорвался на хриплый шепот: – Чья на вас одежа?
Дочь и зять не ответили. Тогда старуха, приглядевшись к одежде, сказала:
– В таких куртках ходят промысловики и ходоки.
– Забудь про одежу, мама. – Голос дочери звучал слабо и как-то вяло, словно не успел набрать должной силы. – Проведи нас в дом, согрей и накорми. Нам холодно и голодно. С самого покоса мы не держали во рту ни крошки.
Лицо Сухоты побледнело, и она проговорила дрогнувшим голосом:
– Внук не должен вас видеть.
– Ляшко? Он здесь?
– А где ж ему быть?
– Мы по нему соскучились. Впусти нас в дом, и мы обнимем его.
Несколько секунд на лице старухи отражалась борьба, после чего она решительно заявила:
– Этого не должно быть, милая. Это неправильно. Мертвецы не могут явиться к живым во плоти.
– Но мы явились, – тихо возразила Зоряна.
Старуха вновь отрицательно качнула головой.
– Не обессудьте, милые, но я не пущу вас в горницу.
Зоряна и Любомил переглянулись.
– Ты не сможешь нас остановить, мама, – глухо проговорила Зоряна.
– Мы все равно войдем, – сухо проговорил зять Любомил.
За спиной у него, за приоткрытой в ночную темень входной дверью, послышался какой-то шум.
– Кто там? – встревоженно спросила Сухота. – Кого это вы привели?
– Те, благодаря кому мы здесь. Они так же голодны, как мы.
Зоряна обернулась к двери.
– Зорюшка, нет! – крикнула старуха и попыталась схватить мертвую дочь за руку, но не успела.
Большая белая фигура, подобно огромной ночной бабочке, стремительно влетела в сени, сшибла Сухоту с ног и вцепилась ей когтями в грудь и лицо.
Другая фигура, такая же мучнисто-белая, распахнув с размаху дверь, устремилась в горницу. Секунду спустя цепкие лапы схватили притихшего мальчика и выдернули из-под одеяла. Мальчик вскрикнул от боли и ужаса, но тут же захлебнулся собственным криком. Багровая струя крови брызнула на одеяло, и в комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим чавканьем белых тварей.
Темно и глухо было об эту пору в княжьем городе. Улицы опустели еще задолго до заката. Ставни на домах плотно закрыты. На дороге поблескивали лужи. Синие мухи, облепившие конский навоз, блестели в лунном свете, как хуралуговые заклепки на броне ратника.