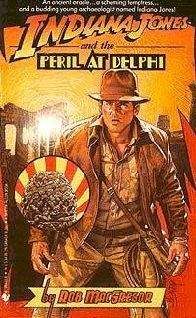Вонь от сжигаемой на алтарях требухи заставляла желудок переворачиваться. А может, виноват был голод: завтраком нас не накормили — то ли по обычаю, то ли просто не успели. Кровь, вино, оливковое масло, смешиваясь, стекали ручейками на потемневшие плиты и оттуда — на землю. Девушки-танцовщицы, похожие на нимф в своих светлых воздушных одеяниях, наступали босыми ногами в поблескивающие на солнце лужицы, и их ступни становились красными — в цвет крашенных охрой бычьих рогов.
Легким кучевым облачком нимфы подплыли к центру круга, образованного алтарями, и вдруг разлетелись, рассыпались в стороны, оставив посередине одинокую фигуру. Сердце пропустило удар — Ариадна?! Нет, обознался. Мерный ритм барабанов всколыхнул тяжелый воздух. Дрогнули пластины массивного ожерелья. Звякнули браслеты на запястьях и лодыжках. Темные пряди, перевитые золотыми лентами, упали на лицо — танец начался.
Руки-змеи, руки-лианы плетут неведомую вязь, замысловатую серебряную сетку — кого ловить будем? Нет ответа. Бедра колышутся лодкой на волнах, детской колыбелью. Волосы — плети водорослей в толще воды. Сильно подведенные глаза невидяще смотрят вдаль, вспыхивая небывалым черным огнем. Истома, угроза и тайна женского естества сгущаются вокруг танцовщицы, накрывают зрителей облаком мускусного аромата. Я ловлю себя на том, что стою, подавшись вперед, забывая дышать и моргать. Впиваюсь взглядом, как голодный жадными пальцами судорожно вцепляется в кусок брошенной лепешки.
В этот момент девушки расступаются, и в круг выходит… нет, не Астерий, как показалось мне с перепугу. Видать, один из жрецов надел маску и изображает то ли Зевса-быка, то ли… Женщина вьется вокруг него побегом плюща, пауком, ткущим паутину, и одновременно — бабочкой, запутавшейся в липких нитях. Зверь принимает предложенную жертву, изображает соитие, а мне становится противно. Я все понимаю — обряд плодородия, женское начало, мужское начало, но… не могу. Отворачиваюсь от танцоров и прикрываю глаза — слишком похожи маски, слишком знакомы движения тел. Ну их, в самом деле.
Потом нас повели в обход храма к его западной стене. Там, между двумя старыми оливами — интересно, как деревья могли уцелеть при строительстве? — стоял жертвенник, над которым возвышалась каменная бычья голова. Немолодой жрец с родимым пятном во всю щеку забубнил невнятицу — я не вслушивался и очнулся, когда получил чувствительный толчок в спину от кого-то из своих. В руках обнаружилось тяжеленное золотое блюдо, наполненное плодами и злаками, а жрец ловким ударом по голени заставил меня опуститься на одно колено и зашептал на ухо слова на незнакомом языке.
Рот сам, помимо воли, стал повторять непривычные шипящие и гортанные звуки. На минуту почудилось, что бык с барельефа смотрит мне прямо в лицо. Или не почудилось? Глаза зверя начали наливаться красным светом, метать искры, изо рта и ноздрей пошел дым. Позади кто-то испуганно вскрикнул. Я оторопело моргнул и, оторвав взгляд от бычьей морды, увидел паренька лет десяти, который, скорчившись в закутке между жертвенником и стеной храма, возился там, сопя от усердия. Наружу высовывались то измазанная пятка, то острый ободранный локоть. Ну, по крайней мере, стало ясно, что дым из бычьих ноздрей — не плод моего воображения.
Жрец, похоже, впал в молитвенный экстаз и не заметил, как я стащил с роскошного блюда горсть оливок. Каменному быку все равно, а мне для дела. Я швырнул оливкой в мальчишку и попал. Он вздрогнул, недоуменно огляделся по сторонам и вернулся к прерванному занятию. Еще несколько попаданий ничего не изменили в расстановке сил. Тогда, изловчившись, я стянул с жертвенника яблоко (совсем маленькое, я же не чудовище).
Этот метательный снаряд вынудил парнишку подскочить с возмущенным воплем, на траву посыпались щепки и сухие ветки. Я еле удержался, чтобы не расхохотаться в голос — до того потешно выглядела его испуганная мордочка. Обалдело моргающий жрец только подливал масла в огонь — в переносном смысле, конечно.
День тянулся нескончаемой нитью, будто пряха Клото задалась целью его обессмертить. Сумерки густели неохотно, делая кому-то большое одолжение и раздумывая, что бы попросить взамен. Вместе с темнотой пришла тоска и взялась за меня всерьёз. Как и обещал Астерий, нас разместили при храме — видимо, в бывшей кладовой. Неистребимый запах пряностей тревожил обоняние. Спят ли мои спутники? Я уже успел шепнуть им, чтобы завтра держались поближе ко мне, особенно после состязаний. Немножко рассказал про Лабиринт и план побега. А самому при этом хотелось выть на луну на пару с какой-нибудь бездомной псиной, обиженной судьбой и людьми, или плюнуть на все и пойти знакомой дорогой в подземелья.
Открыть дверь, попросить рабов нагреть воды, смыть с себя дурацкое масло, упасть на ложе в родное тепло — и пропади оно все пропадом! Минос, Лабиринт, Игры, клятвы, боги, жертвы… зачем? Я уеду управлять государством и растить наследников, Астерий останется бродить тенью по дворцу и изредка муштровать новобранцев. Будущее явственно пованивало тухлой рыбой.
Я встал и вышел во двор — раз уж не могу уснуть, так хоть воздухом подышу. Луна издевательски подмигивала с небес: скучаешь, красавчик? Привыкай! Оливы насмешливо шелестели листвой: не спится, дружок? Ветер хватал за плечи, ерошил волосы на затылке холодной ладонью: тебе одиноко, мальчик? Ночная птица пронзительно вскрикнула где-то над головой: радуйся, Тесей, сын Эгея!
— Радуйся, Тесей, сын Эгея, — а это уже не птица. Бледное узкое лицо как будто светится в темноте, черное покрывало вышито звездами. Нюкта-ночь спустилась на землю поговорить со смертным?
— Радуйся, Ариадна, дочь Миноса.
Молчание — терпкое, как старое вино — разливается в воздухе, каплями оседает на губах, сушит горло. Молчание дрожит серебристой струной Орфеевой лиры, заставляя окружающих напряженно вслушиваться в тишину. Но отточенное лезвие чужого голоса рассекает струну наотмашь, и молчание, обиженно взвизгнув, с оттяжкой бьет невежу по губам.
— Скажи мне, Тесей, исполнишь ли ты свою клятву? Возьмешь ли меня с собой в Афины, назовешь супругой перед богами и людьми? — голос холодный и ломкий, у слов острые края, тронь — обрежешься.
— Но… Ариадна, что заставило тебя подумать, будто я собираюсь нарушить обещание? Разве я дал повод подозревать…
Нетерпеливый взмах рукой, и звезды с покрывала взлетают вверх, чтобы снова упасть на землю.
— Не увиливай от ответа, трезенец. Сейчас нить твоей жизни — в моих ладонях! — боги, да она вот-вот заплачет! Я делаю шаг по направлению к тонкой фигурке, но та отшатывается — и лезвие ножа тускло блестит в лунном свете. Ну и ну!