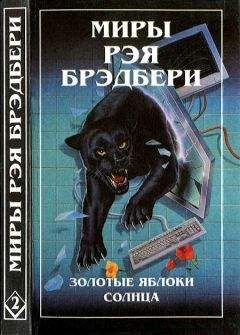Дав сыну немного полюбоваться удивительным этим деревом, Мокошь с улыбкою начала:
— А теперь, сын, рассказывай! Что за мальчишка? Где тут у нас его маленькое веретено?
— Его веретенца здесь нет.
— Нет веретенца?! — не поверила Мокошь. — Быть не может! Вон их здесь сколько! — и замолчала, и увидев, как быстро темнеет подол, заходила, играя плотными складками, и всё наконец поняла: это был тот самый детеныш, чужак! Значит, Лихо и Коловул его не убили! И сказала с улыбкой: — Ах, нет веретенца! И только поэтому ты полагаешь, что я над его судьбой уже и не властна?!
А Симаргл помолчал и сказал:
— Я хочу, чтоб он властвовал над своею судьбою сам.
— Сам? — вскричала богиня. — Но так не бывает!
— Так не бывало, — согласился Симаргл. — Но тебе ведь всегда хотелось чего-нибудь небывалого!
Мокошь вскинула брови: как он знает ее! Как умело на струнках ее играет. И не придумав, что сразу на это ответить, завертела под руку попавшееся веретено. А потом уже только заметила: это было веретено Родовита, вот и славно, пусть вертится, не пора ли? И нашла, наконец, что сказать:
— Говоришь, небывалое ждет? Хорошо! Но тогда поклянись, что и ты в судьбу его вмешиваться не станешь! Что бы ни было! Поклянись! — и услышав тяжелую поступь Перуна, сына заторопила: — Клянись же!
Было видно, Симарглу не просто на это решиться. И все-таки он сказал:
— Да. Клянусь! Именем моего отца…
И следом послышалось громовое:
— Да тут, я вижу, совет богов! А почему без меня? — Перун рассмеялся, обнял жену и сына, он давно не видел их рядом.
А потом они вместе сидели под деревом жизни и ели его золотистые яблоки. Перун и Симаргл рассуждали о тучах и облаках, молниях и мечах, конях, упряжи, колесницах. А Мокошь сначала просто скучала, а потом вдруг почувствовала, что скучает нетерпеливо. И удивилась, и поняла: отныне она скучает в предчувствии небывалого.
Фефила считала, что охраняет детей. Для нее они были, конечно же, дети, допоздна задержавшиеся в лесу. И куда бы они ни шли, куда бы в бездумном своем говорении ни сворачивали, она катилась за ними следом или же пробиралась в высокой траве, — всегда на почтительном расстоянии… Но оттого, что расстояние это ей все время хотелось нарушить, а больше всего хотелось свернуться клубком и лежать у самых их ног, потому что она ведь помнила, как от этого хорошо, — от этого лучше, чем хорошо, да от этого лучше, чем лучше! — Фефилу одолевали сомнения: а все-таки, что она делает здесь — охраняет детей или бродит за ними в свое удовольствие? И если только лишь в удовольствие, не честнее, не вежливее ли поскорей укатиться отсюда в нору?
Но вот Ягда с Кащеем дошли уже до Священной рощи, и Фефила помчалась наперерез. Она и лапки уже собралась растопырить. А Ягда сама спохватилась:
— Кащей… Дальше тебе нельзя! Наши боги за это могут убить.
— За что? — не понял Кащей.
Роща, в которой деревья росли так редко, что каждое вырастало, как человек в лучший миг своей жизни, в бою, например, — во всю мощь, во всю стать, во всю ширь, — открылась им в теплых закатных лучах.
— Входить в Священную рощу можно только отцу! А еще… — Ягда храбро шагнула вперед, чуть помедлила, а потом побежала: — Можно! Можно! Мне тоже! Потому что теперь я уж точно буду княгиней!
И касаясь неохватных деревьев, будто играя с ними в пятнашки, она то скрывалась за их стволами, то допрыгивала до их первых ветвей, то убегала в такую даль, что у Кащея сердце сжималось: темнеет уже, не потеряться бы! И Фефила тоже на это вздыхала: вечера ведь в лесу не бывает. В лесу только день бывает и ночь.
— Ягда! — крикнул с тревогой Кащей.
А из рощи вдруг донеслось едва слышное:
— Кукушка, скажи мне! А долго я буду княгиней?
И то ли кукушка закуковала, то ли филин заухал, отсюда было не разобрать. Но только слушала Ягда долго, потом закричала:
— Ого! Ого-го! — и снова спросила — Кукушка, кукушка! А с Кащеем мы сколько лет будем вместе?
И тихо стало в лесу. Так тихо, что слышно было, как Сныпять где-то в потемках течет.
— Мы будем вместе всегда! — одними губами сказал Кащей.
А Ягда — всем голосом — не ему, притихшей кукушке:
— Неправда! Долго! Всегда-всегда! Клянусь Перуном!
А он опять — одними губами:
— Клянусь Симарглом.
И только рыба на это в реке отозвалась негромким плеском. И только Фефила — озабоченным вздохом. Потому что вечера в лесу не бывает. Только день бывает в лесу, а потом сразу ночь.
До густой темноты Жар бежал и снова в отчаянии брел по степи. В ярости жег траву, рубил мечом головы одуванчиков, а ногами топтал всё, что не успевало из-под них увернуться — цикад, кузнечиков, ящериц, змей. Буро-зеленая жижа продолжила из раны сочиться. Он зажимал ее подорожником, лизал двойным языком. И упрямо шел, сам не зная куда.
Три лягушки кричали ему: «Богоравный!» — потому что лягушками не были, потому что их Велес послал Жару вслед. Но Жар и за ними погнался, и их бы растоптал непременно, а не растоптал бы, так заживо сжег, а только ночь опустилась на степь. Языками огня змий лишь дорогу себе освещал. Но была ли дорога эта прямой или ярость и боль вели его, точно водит корову по пашне, он не знал. И когда позади себя топот ног различил, от которого тяжело сотрясалась земля, ужаснулся — решил, что во тьме сам на Селище вышел, сам людей огнем приманил. И теперь, кто только может бежать, все несутся за ним — с мечами и вилами. И рванулся вперед. А только и топот в силе прибавил. И с топотом вместе вдруг голоса понеслись:
— Жар, братец! Стой!
— Мы родня! Мы свои! — голоса, от которых дрожь пробирала — незнакомые, будто из звериной утробы несущиеся.
А потом догнали и повалили — кто-то сверху упал, а кто-то за ноги дернул и меч отобрал. И еще — видно, знали повадки его — пасть схватили ручищей, чтобы он не то что огня, даже искры не выронил. Крепко, мертво держали. А говорили, как пели:
— Жар, кровиночка, брат! Папа устал уже за тобой гонцов посылать! — хоть и бас был, а будто женский.
И следом мужской, но будто и волчий немного:
— Велес не любит шутить! Сам пойдешь или в зубах тебя отнести?
— М-м-м-м! — мычал, потому что пасть его, как и прежде, держали.
Видно, Лихо держала. А может, и Коловул. Жар уже догадался — по словам, по повадкам, по запаху волчьему — что за родня облегла его с двух сторон. И когда с земли его поднимала, — все-таки Лихо, должно быть, и на руках по степи понесла, — пасть ему стиснула еще крепче. А говорила с душой: