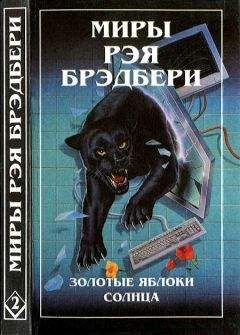— Братец мой! Маленький мой! Вот ведь как свидеться довелось!
Но слаще, чем Лиховы, были для Жара слова Коловула — все звезды им были свидетели, все цикады в степи:
— Клянусь Велесом, теперь на Кащея вместе пойдем!
И Жар тогда тоже поклясться решил. А вышло только:
— Му-гу! Му-му-гу!
И от обиды заплакал. Да так горячо, что Лихо слезами обжег. И руки обжег ей, и грудь. И она его бросила на траву:
— Ну-ка, утрись!
А он и в траву горючие слезы лил — шипела от них трава — про то лил, что в эту бесценную ночь, черненную, как серебро, изумрудами звезд всю до края осыпанную, не он нес невесту свою на руках, а его, побежденного и бессильного, тащила степью рукастая великанша — в топь, в черноту земли, Велесу под ребро! Вот и снова с земли его ухватила:
— Ну? Утерся? — и дальше поволокла.
Перун на небе, Родовит в дому
Семь лет поднимался над краем земли Дажьбог молитвами лишь одного Родовита. Семь лет лишь один Родовит провожал ладью его на закате, руки к нему тянул — один за всё Селище — и говорил: «Твой путь под землей да будет прямым и недолгим!» Казалось, привыкли к этому люди. Казалось уже: и хорошо, раз один управляется старый князь. А вот убежал от них Жар, обронил в траву княжеский посох — он не посох, в глазах людей, он себя уронил, — силой, страстью, словами, обещаниями необычайными поманил их, как огоньки на болоте манят, а сами в топь, на погибель ведут, — и очнулись вдруг люди. Только вечер пришел, а они уже и очнулись. И сами на крыши свои взошли. И увидели, Родовит их — уже на крыше. И тоже руки стали к горящему краю неба тянуть, и голоса вслед ладье уплывающей слать:
— О Дажьбог! Вернешься ли ты опять?
— Возвращайся! В тебе наша сила!
И увидел на крышах людей своих Родовит, и к ним обернулся:
— Внуки вепря! — воскликнул.
И слезы на глазах людей проступили. Давно, и не сказать, как давно, они не были внуками вепря, хотя были ими всегда и, значит, жили с собою в разлуке.
И опять громче прежнего возгласил Родовит:
— Внуки вепря!
И кончилась их разлука с собою. А когда он сказал им: «Дажьбог вернется! Он обещал!» — закричали люди на крышах да так, будто растили в себе этот крик все семь лет:
— Он вернется! — кричали. — Внуки вепря! Он нам обещал!
И все птицы, которые на деревьях сидели, от этого крика в небо взвились, и свой взволнованный крик лучезарному богу послали. И показалось вдруг Родовиту: отныне так будет всегда. Отныне не птицы только, и звери тоже с богами научаться говорить. И каждое зернышко, в землю брошенное, выберется из-под земли уже не само, а со своей молчаливой молитвою — и в рост небывалый пойдет!.. Вот такой это был удивительный вечер. Но всякий вечер сменяет ночь. А ночью в дом стучит неизвестность. Бывает рукой человека стучит, а бывает и тишиной, которая больше стука пугает. Тихо было в дому. Потому что Жар убежал. А Ягда в дом до поздней этой поры не вернулась.
Не спал Родовит, с Мамушкой возле лучины сидел. Шагов легких дочкиных ждал. А вместо них топот ног во дворе расслышал. Вышел на крыльцо Родовит, а во дворе Заяц с Уткой запыхавшиеся стоят. Говорят, что, мол, яблок в лесу зеленых объелись, на поляне, которая от рощи Священной недалеко, а потом им двоим животы прихватило, а с ними вместе Щука еще была, и вот они, значит, от Щуки подальше в лес побежали с животами своими больными…
— Хватит про животы! — громыхнул Родовит.
А Заяц тогда поклонился:
— Князь-отец! Теперь ведь у нас ты опять князь-отец? Тебе первому правду и знать. Как Ягда с Кащеем в лес пошла! На ночь глядя! И не вернулась! Мы с Уткой своими глазами видели!
И Утка на это — сопя:
— Убить его мало!
— Место сможете показать? — спросил Родовит и, когда закивали оба, так сказал: — Собирайте людей!
А Заяц с Уткой за семь-то лет привыкли дворы обегать. И бросились со всех ног. Вот уже и голоса повсюду послышались. Вот и факелы тут и там зажигаться стали. Спешили люди на зов Родовита, к княжескому дому бежали. И вдруг слышно им стало, как струны звенят. Потому что к Лясу бывало слова и среди ночи слетались. Не удивились этому люди. А вот чтобы голосом он своим ночь пополам разрезал, такого не было никогда. Остановились от этого. Головы повернули. Громко пел Ляс. Не пел — гремел:
— Вы видели храбрость и верность!
Вы видели это!
Вы трогали это глазами.
Ничто под небом не вечно –
Вы трогали вечность глазами!
И если вам скажут однажды:
«Ничто под небом не вечно»,
Скажите в ответ на это:
«Мы видели храбрость и верность.
Мы сами видели это!»
Через все Селище голос его летел. И Заяц спросил Удала:
— Пап, про что это он?
И Утка спросил у Яси, она тут же стояла:
— Он это про что?
А взрослые переглянулись между собою так, словно Заяц и Утка сами еще невзрослыми были. И Яся сказала:
— Про Ягодку нашу… и про Кащея.
А потом голос Ляса и до княжеского крыльца долетел. И Мамушка вслед Родовиту нарочно слова нараспев повторила:
— Мы видели храбрость и верность! Мы сами видели это!
Ударил на это князь посохом оземь.
— Время — ночь! — так сказал. — Не время для песен!
И разом затихло Селище. И люди и факелы в сторону леса двинулись. Утка и Заяц людей за собой вели.
И опять повторим мы прежний вопрос: так ли уж страшен был Велес-бог? А ответим, а увидим впервые: как же страшен, до какой же неистовой силы ужасен, грозен и отвратителен! Дети его — все трое, и сами ведь не из робких — сидели в углу его каменной залы и трепетали. А нечисть тысячемордая, та и вовсе в щели забилась. Потому что метался Велес, визжал, на четыре конечности опускался и с рыком кидался на Жара, а то вдруг неистово распрямлялся и своды хребтом сокрушал. И падали камни, и дрожь по всему подземелью бежала.
— Как мог тебя, полубога, одолеть какой-то мальчишка? Как?! Отвечай! — и в Жара когтями ткнул, едва их в живот не вогнал.
Охнул Жар, совсем в камень вжался:
— А ты накажи их! Отец! Ты на них гладомор пошли! Сможешь, нет?!
— Это я не смогу?! — и от ярости искры из глаз и из шкуры Велесовой посыпались. — Уморить! Иссушить! Истребить! Всё могу! Но заставить их полюбить меня… полюбить всеми своими недолгими потрохами… мог лишь ты!
— А я и опять смогу! — взвизгнул вдруг Жар и глаза к носу немного скосил. — Отец! Клянусь Велесом! Я смогу! А ты… Ты только убей Кащея!
— Сам пойдешь и убьешь! — и всеми когтями подцепил-таки Жара, к глазам своим выпученным поднес: — Недобог! Недочеловек!