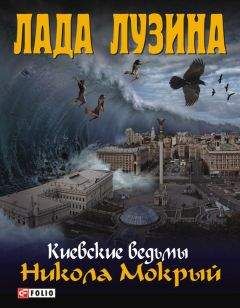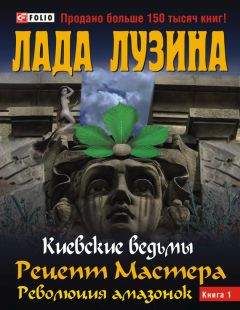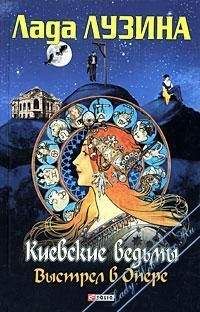Причем где-то в середине «прорезанной» путь их внезапно совпал с движением усатого обладателя загадочной книжки — Маша и признала-то его только тогда, когда, поравнявшись с остатками Золотых ворот, тот остановился, вновь извлек свою книжицу и начал писать.
— Интересно, что он записывает? — сказала студентка, которой в XIX веке было интересно совершенно все, но в особенности то, что попадало под статью «совпадения». — Ты заметил, мы на него уже второй раз натыкаемся? Он был на площади, когда человека задавил трамвай. Он стоял за твоей спиной. И тоже что-то писал. Кто он такой?
— Детектив, — допустил Мирослав.
— Или журналист.
— Ща узнаем! — разудало пообещал Красавицкий. — Подкинь-ка мне два-три слова и пару фраз посмешнее. Типа бельведера.
— Ну-у… — Маша скосила глаза. — Бонтонно — это классно. Реприманд — выговор. Прифрантилась. Неудобопереносимый. Может, я вздор вру. Вы весь — прелесть…
— А обращаться как?
— Любезнейший, милостивейший государь, батенька.
— Сойдет!
Не долго думая, Мир подскочил к господину с усами и, с энтузиазмом воздев к небу обе руки, зачастил непрерывной скороговоркой:
— О! Здравствуйте, любезнейший! Здравствуйте! Вы ж меня помните! Я — Красавицкий! Ну, вспомнили! — обрадовался он утвердительно, игнорируя недоуменное лицо усача. — Вижу, вспомнили! А вы, батенька, прифрантились. Бонтонно! И все пишете, пишете…
— Да, пишу, — согласился озадаченно вглядывающийся в Мира усач.
— Уж не бельведер ли этот прекрасный вас вдохновил? — очертил Мир полукружье рукой. — Красота изумительная. Киев — прекрасный! Или я вздор вру? — заигрывающе переспросил он.
«Вздор, — подтвердила Маша. — Я ж тебе говорила. Бельведер — это возвышенность, башня, гора с беседкой».
— Да нет, не бельведер… — Господин поискал глазами нечто пригодное для применения итальянского слова. Но не нашел.
Не было Башни Киевиц в ведьмацком остроконечном колпаке.
Не было на углу Владимирской и Прорезной пятиэтажного дома с башней в округлой царской шапке.
Не было, куда ни глянь, в Киеве-Златоглаве ни одной высоты, кроме сотен золотых куполов, сотен церквей!
— Анекдот один мучает, скорее жуткий, чем прекрасный. — Судя по медлительности слов усача, отвечая, он тщетно старался припомнить накинувшегося на него энтузиаистического красавца в цилиндре. — Нынче, в час пополудни, на Царской у меня на глазах трамвай человека убил. Машина адская…
— Простите мой реприманд, — перебил Красавицкий, — но если трамвай — «машина адская», то сатана — слесарь-сантехник! — Судя по смешливости в словах Мирослава, он — сатанист XIX века, при всем желании не мог увязать понятие «ад» с маленьким допотопным трамвайчиком.
Но что трамвай, если в нынешнем (или грядущем) 1895 году крестьянин чуть не забил насмерть дубинкой велосипедиста, искренне посчитав того чертом, а велосипед — адской машиной! А ведь велосипед, в отличие от трамвая, никого не убивал…
— Позвольте вам возразить, — обиделся господин. — В кармане у жертвы была обнаружена записка прелюбопытнейшего содержания, имеющая прямое касательство к чертовщине. Мне позволили списать ее.
— Позвольте полюбопытствовать? — Мир уже тянул бесцеремонные руки к записке.
Маша б тоже желала полюбопытствовать.
Желала так сильно, что даже встала на цыпочки и хотя понятно — приблизить к желаемому это ее никак не могло.
— Суеверия. Невежество. Темнота, — охарактеризовал свое отношенье к прочитанному Мир Красавицкий. — Да что я! — не дал он усачу вставить ни слова. — Скажите лучше, мне, неудобопереносимому, где творение ваше читать? Толстой вы наш! Будем-с ждать с нетерпением! Вы ж весь — прелесть! Так где? Где?
— В «Киевлянине», если угодно. Почту за честь. Не обессудьте, спешу. — Господин захлопнул книжку и, отвесив назойливому франту короткий кивок, спешно зашагал прочь.
— Выходит, все-таки журналист. — Мир вернулся к Маше. — Ну, как я его?
— Ты быстро учишься, — похвалила она.
— На, бери. Я знал, что ты захочешь прочесть. — Красавицкий протягивал ей записку.
— Ты украл у него?! — обомлела студентка.
— Ловко?!
— Но некрасиво, — пристыдила его Ковалева.
Тем не менее развернула и жадно прочла:
На острове Кияне, на море Окияне стоит дуб-стародуб.
На том дубе-стародубе лежит кровать тесовая.
На той кровати лежит перина пуховая.
На той перине лежит змея-Катерина и две сестры ее….
Змея-Катерина и две сестры ее, соберите всех своих змеев и змей. Их тринадцать сестер, их тринадцать братей: залечные, подпечные, щелевые, дворовые, подгорожные, подорожные, лессовые, садовые, которую я не напомню, напомните себе сами, самая злая — игольница переярая. Соберите их и спросите, которая из них подшутила, свой яд упустила крещеному телу Отечества-Руси.
Я вас прошу, змея-Катерина и две сестры ее, выньте свой яд из крещенного тела Руси! Если же вы не поможете, свой яд не вынете, буду жаловаться ангелу-архангелу небесному, грозному, с точеным копьем, с каленым мечом. Он вас побьет, он вас пожжет, пепел ваш в океан-море снесет, повыведет все племя и род.
Вот вам один отговор. Сто их тринадцать отговоров вам.
Машу передернуло так, словно ее тело пронзил разряд электричества, засиявшего над Крещатиком в 1892.
«Змея-Катерина…»
«К+2»! «Змея-Катерина и две сестры ее»!
«AAA не прольет…»
— Что-то случилось? — немедленно забеспокоился Мир.
— Я не понимаю связи…
Маша не видела ни малейшей связи меж Катей, дивным заговором (никак не вписывавшимся в историю Анны и Лиры) и Анной Ахматовой (в трамвайной истории никак не участвовавшей).
— И все же она есть, — сказала студентка. — Знаешь, — прибавила она после паузы, — я тут подумала… Первый в России трамвай — погодок Булгакова. Булгаков родился в мае 1891, трамвай пошел в мае 1892. Но ведь трамвай, как и человек, родился не тогда, когда начал ходить. Первый опыт по эксплуатации вагона электрического трамвая на Александровском спуске был проведен в 1891! Они — ровесники. Они родились одновременно. И оба родились в Киеве. Может, не случайно роман «Мастер и Маргарита» начинается с трамвая? Там ведь трамвай тоже выполняет функцию «адской машины»… Это не имеет отношения к делу Ахматовой, это я так, — быстро оправдалась она.
Мир посмотрел на нее со странной внимательностью.
— Маш, я не хотел тебя расстраивать, — сказал он. — Но, возможно, это важно. Тогда я не должен тебе врать. Впрочем, я и не соврал. Женщина ж тоже человек.