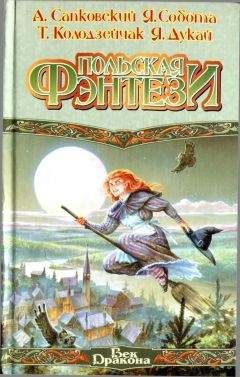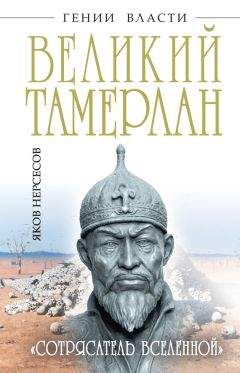Черный кот опасливо выполз из-под кровати, потянулся, мяукнул — тихо, неуверенно. Потом сел, вылизал лапку, потер ею ухо, отсутствующий, спокойный.
Лекарка вздохнула с облегчением — истинным, долгожданным и окончательным.
То, что шло через темный бор, смеясь и нашептывая, не приближалось к ее холму.
Оно двигалось в противоположном направлении.
Моника протерла глаза, посмотрела на пальцы, позеленевшие от замшелого ствола ольхи, о который молотила кулаками там, в чаще леса. Теперь она стояла в собственном пансионатском домике, посреди ясного пятна лунного света, льющегося в окно. Элька по прозвищу Куропатка, ее соседка, спала у себя на постели, на спине, полуоткрыв рот, легонько похрапывая. Успела уже вернуться в собственную постель.
Моника Шредер улыбнулась, исполненная силы и покоя.
Посмотрела в окно, на искореженную сосну, где в развилке ветвей серебрилась капельками росы паутина.
Легким, небрежным движением протянула руку, поманила пальцем.
Огромный жирный паук-крестовик тотчас выскочил из скрученного листка в углу паутины, молнией соскользнул по нити вниз. Спустя мгновение прополз по подоконнику, по занавеске, по полу. У Моникиных ног остановился, замер, поднял в ожидании две передние ножки.
Все так же улыбаясь, Моника указала на открытый рот Эльки по прозвищу Куропатка. Не дожидаясь, вышла из домика. Для этого ей не понадобилось открывать дверь.
Паук, послушный приказу, быстро пополз в сторону кровати.
Он открыл глаза, задыхаясь, охваченный ужасом. Хотел дотянуться рукой до рта — не мог. Хотел поднять голову.
Не мог. Словно его парализовало. Чувствовал пронзительно-сладкий запах цветов, чувствовал прикосновение лепестков, стеблей, шипов, мокрых листочков — везде: на щеках, на шее, на плечах.
Он лежал среди груды цветов.
Моника Шредер подошла ближе и улыбнулась. И увидев ее улыбку, он открыл рот в крике. Крике, который должен был поднять на ноги весь пансионат, все окрестные села и даже пожарную охрану в далеких Лясковицах. Но то, что вырвалось из стиснутого невидимой гарротой горла, было лишь едва слышным отчаянным хрипом.
Моника Шредер подошла еще ближе, встала над ним, шепча, и в этом шепоте пульсировала страсть — безумный, неистовый призыв, неодолимая сила. Он отреагировал, пораженный тем, что способен реагировать. Он слушал ее шепот, теперь уже отчетливый и внятный.
Шла в долину тайною дорожкой,
Милый ждал меня нетерпеливо.
Как ласкал меня он, Матерь Божья!
Но — была ли я тогда счастливой?
Жар поцелуев, любви красота.
Она раздевалась спокойно, не спеша, не переставая улыбаться. Он смотрел на нее глазами, раскрытыми до боли. И — до боли — был для нее.
Когда она коснулась его, он вздрогнул так, словно к груди ему прижали раскаленную кочергу. Когда обняла его и сжала бедрами, показалось, будто на него выплеснули ведро жидкого кислорода. Прямо над собой он увидел ее глаза.
— И что, пан доктор?
— Обширный инсульт. Лопнул сосуд в мозге. Перетрудился, Казанова эдакий, сверх меры.
— То есть вы думаете, что...
— Вскрытие покажет. Однако из того, что я вижу, следует, что это была прекрасная смерть, достойная мужчины. Пал в сражении, на поле брани, если можно так выразиться.
— Такой молодой? На мой взгляд, ему еще сорока нет.
— У молодых, пан Казик, тоже бывают слабые сосуды. Что ж, романтичный был мужик, вы гляньте только на эти цветы. Что за фантазия, холера! Усыпал цветами постель и на этих цветах ее...
— Пропади оно все пропадом! И что мне теперь делать? Ведь я ее должен буду найти, эту бабу, что с ним была. И как? Что, ходить и расспрашивать?
— А зачем? Разве это наказуемо? Говорю ж вам, у него случился инсульт. С ним такое могло произойти на работе или за водкой.
— Ну, эти... показания или протокол какой надо б составить. Из того, что вы говорите, пан доктор, следует, что она с ним была, когда... Ну, вы понимаете...
— Еще как была! Удивительно, что и ее тогда удар не хватил. А впрочем, какая разница? Пойду вызову транспорт, сам я его не повезу. А вы поищите ту красотку, пан Казик, ежели вам охота. Хотя бы по следам.
— По каким следам?
— Да, вы явно не Шерлок Холмс. Посмотрите на цветы, здесь, на подушке.
— Смотрю, ну и что?
— На них отпечатался след головы.
Поезд из Черска, следующий до Лясковиц, прибыл на станцию строго по расписанию, подъехал к перрону, едва отзвенел сумасшедший, назойливый звонок шлагбаума. Перрон был пуст, только три рыболова, увешанные сумками, рюкзаками и длинными футлярами с удочками, поднялись по железным ступенькам в вагон.
Они разложили багаж на полках и на сиденьях, вылезли из толстых курток, которые были на них надеты, хоть утро и выдалось теплым и солнечным. Один вытащил из кармана жилетки пачку сигарет, протянул друзьям.
Друзья рыбака сидели неподвижно, впиваясь взглядами в льноволосую девушку, которая рядом, в том же купе, напротив них, слегка склонила голову над книгой.
Рыбак застыл с протянутой рукой. Не мог отвести глаз. Потому что эта девушка была... была... просто неправдоподобно... невероятно...
Прекрасна.
СТРАДАНИЯ ГРАФА МОРТЕНА[127]
Печально то, что страдания, пожалуй, единственный безотказный способ пробудить душу ото сна.
Сол Беллоу. «Гендерсон, король дождя»
Хваааатит! — крикнул граф Мортен, владелец замка Кальтерн.
Однако палач знал лучше.
Породистое тело графа блестело каплями пота, холодного, как смерть. Зрачки совершенно голубых глаз Мортена стали огромными от боли и муки. И экстаза. Его нагое тело возлежало на прогнившей от грязи скамье, а многофункциональный механизм для истязаний растягивал его до предела человеческой выносливости.
Механизмом управлял безымянный палач, человек по природе угрюмый и молчаливый. Его будто топором вырубленное лицо тонуло в глубокой тени. Подвал освещал одинокий факел, висящий у входа.
Последний оборот маховичка, нежный, как прикосновение крыла бабочки, и граф с тихим вздохом потерял сознание. Минутой позже что-то опасно затрещало — палач не мог сказать, то ли это были натянутые ремни, то ли чрезмерно растянутые суставы графа. Возможно — и то, и другое.