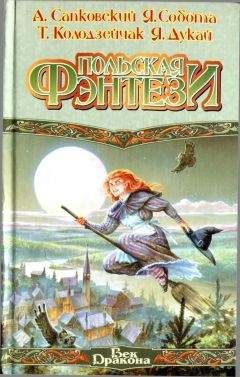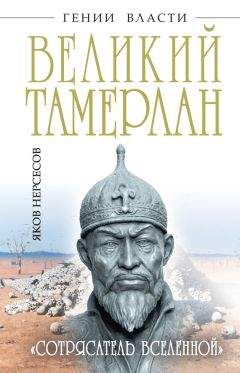— Надеюсь, тебе не наскучило мое гостеприимство, мэтр? — Граф не отрывал глаз от затянутого тучами неба. Он подумал, что люди подобны тучам. Их тоже неустанно гонит какой-то ветер предназначения.
— Как может наскучить то, чего нет? Я сижу в этой затхлой, влажной норе много дней и...
— Действительно, здесь влажно, — буркнул граф. Он оторвал глаза от туч и взглянул на стены, покрытые толстым слоем плесени. Потом пожал плечами: — Климат такой.
— Я знаю свои права, господин...
— Nécessitas non habet legem, мэтр. У необходимости нет закона.
В тот день граф был неразговорчив, и это неизвестно почему сильно обеспокоило художника.
— А знаешь ли ты, мэтр, что в действительности отличает человека от обычной скотины?
— Разум? — рискнул художник.
— Нет. Способность получать удовольствие от собственного страдания. От чужого, впрочем, тоже.
— Из этого следует, что я не человек.
— Это твое мнение, мэтр.
— Зачем ты все это мне говоришь, граф?
— Узнаешь. Узнаешь уже сегодня ночью.
— Я — уважаемый художник, господин! Я написал портрет супруги князя...
— И его любовницы, знаю. С той поры князь воспылал странной любовью к изящному. Ну и стал покровителем и меценатом твоего искусства. Однако не обольщайся, мэтр, думая, будто Сорм сделает что-либо, чтобы вытащить тебя из Кальтерна. Ты не настолько значительная персона, чтобы князь рискнул торговаться с таким сильным соседом, как я. Очень грустно знать, сколь часто любовь к искусству проигрывает выгоде.
— Я бы не был столь уверен...
— Замолчи. У моего терпения есть свои границы, как и у всего на этом свете. А кажется, группа юных недоумков проталкивает идею мира без границ... Глупцы. Однако, возвращаясь к тебе... мне наскучили твои дерзости. Не забывай — твоя жизнь и смерть в моих руках, хоть ты и не считаешь это для себя честью.
— Но чего ты, собственно, хочешь, господин? Что я должен для тебя написать?
— Уж конечно, не портрет моей любовницы. До чего же скучны бывают бездельничающие художники...
— Что должно произойти этой ночью, господин? -
спросил художник.
Граф вышел, ничего не ответив.
Храбрость не была сильной стороной художника. Он был человеком простым, и если б не головокружительное стечение обстоятельств, быть может, до конца дней своих подковывал бы лошадей, как его отец и дед. Однако сложилось так, что отец художника был убежден в том, что его сын — ублюдок. И это никак не способствовало расцвету родительско-сыновней любви. В результате интересы будущего художника свернули на совершенно другие пути, максимально, разумеется, далекие от кузнечно-подковывательной колеи. Искусство — это чистая случайность.
Подвалы были густо напоены влагой, но на сей раз художник заботился не о своих суставах. Скорее уж опасался за голову, так как этот орган имеет в жизни гораздо большее значение.
Факел давал мало света, и художник, прикованный к стене цепями, тяжкими, как укоры совести, даже не видел лица своего истязателя. Свистнул бич, заканчивающийся свинцовым шариком, и узник почувствовал пронизывающую боль.
— Не забудь присыпать ему раны солью. — Голос графа Мортена шел откуда-то из тьмы.
После первого часа художник перестал ощущать боль. Он перестал вообще что-либо ощущать. Ему казалось, что душа покинула его тело и повисла над ним, словно в задумчивости, полной мягкой иронии. Ибо что есть тело? Так, ничего не стоящая оболочка, «ящик». Правда, ведь существовал еще и ящик Пандоры...
Душа художника запросто проникла сквозь толстые стены замка Кальтерн и порхнула на свободу, к вересковью.
«Значит, я умер», — с удивительным безразличием подумал художник, учитывая последний факт.
Но он не умер. Ведро ледяной воды вернуло его к жизни. Он обрел сознание без всякой радости.
— Ты хотел умереть, маляр, — говорил граф. Его голос, казалось, доходил до художника из дальнего далёка. — Не забывай: не только ты мастер своего дела.
Палач взялся за прижигание.
— Не-ет! — крикнул художник. Его голос перешел в стон.
В воздухе разлился неприятный запах паленого мяса.
— Мой палач — гений, — как ни в чем не бывало продолжал Мортен. — Его искусство оценил даже некий инквизитор, гостивший у меня, а он не был профаном, поверь. Я готовил своего палача к его сложному ремеслу с детства. Он с младых ногтей подвергался самым изысканнейшим истязаниям, чтобы ознакомиться с будущей профессией, так сказать, изнутри. Поэтому его тело так деформировано... Юные кости очень легко растягиваются... Но зато его руки нежнее лепестков горных фиалок.
— Ааааххх!!!
Теперь художника растягивали.
— Ты сетовал на ревматизм, маляр. Говорят, растягивание прекрасно влияет на такого рода недомогания.
Художнику казалось, что еще чуть-чуть — и его конечности оторвутся от тела.
Но палач, как всегда, знал лучше. Он приводил свою машину в движение с тонкостью виртуоза, исполняющего необычную мелодию на доведенном до совершенства инструменте.
— Оооохх!
Мелодия была воистину необычной.
— Вероятно, ты пытаешься понять, мэтр, зачем я, собственно, держу тебя здесь и истязаю. Не думай, что ты первый из моих гостей, с которыми произошло подобное, но в данном случае я хочу, чтобы ты нарисовал для меня дело моей жизни...
Художник не думал ни о чем. У него не было ни сил, ни даже воли, чтобы выслушивать графа. Он любой ценой пытался потерять сознание. И не мог.
Искусство палача превратило механизм для растягивания в дыбу. Истязатель начал готовить тиски.
— Пощади ему пальцы. Они ему будут нужны, — распорядился Мортен.
Палач застыл в неподвижности. Спустя минуту отложил тиски.
— Это будет нечто совершенно особое, неповторимое. Такого заказа ты еще не получал...
Тело художника истекало потом, кровью и мочой.
Неожиданно жертва почуяла свой шанс. Сейчас он потеряет сознание. Однако, прежде чем это случилось, художник еще успел уловить слова Мортена:
— Я хочу, чтобы ты изобразил для меня на полотне свое страдание, мэтр.
Художника разбудила боль. За небольшими исключениями у него болело все тело, так что он даже не пытался пошевелиться. К этим немногочисленным исключениям относились, в частности, веки. Он осторожно приподнял их. Это был не подвал, а просторная сухая комната. Он лежал на огромном ложе под балдахином.
За окном в этот момент как раз начинало светать. Но даже свет не был таким бледным, как лицо художника. По комнате бродила служанка с невероятно обильными формами. Она сметала со стен паутину, которую пережевывала вместе с хлебом своими чудовищными челюстями и затем укладывала на раны художника. Среди пауков царила вполне оправданная паника.