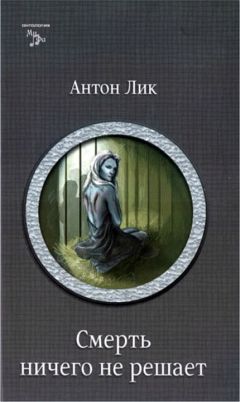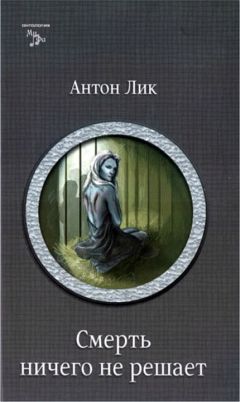Кольцо оцепления сомкнулось вокруг поляны, захватив и скалы, и брошенные на землю полотнища, и людей, что уже понимают — не будет обещанной Агбай-нойоном платы. Будет совсем иная.
— Каганат скорбит, — возбужденно выплюнул Ырхыз. И распаляясь все больше: — Шлюхам и артистам запрещено появляться на улицах города! Смех и веселье оскорбительны в такую минуту, а нарушителей должно карать смертью!
При этом он смотрел на каганари, поняла ли? Поняла, но молчит. Правильно, не следует перечить кагану.
А внизу уже начался шторм. Настоящий и злой, не чета той жалкой потуге, которую силились изобразить скудоумные распорядители и фальшивые лицедеи. Кипело море из солдат, зрителей и артистов, расходилось алой пеной с примесью жаркой рыжины и холодом стальных росчерков. Пламя ползло по шелкам и крашеным шкурам кораблей, глодало жадно дерево и паруса, ласкало пушечную бронзу и играло с людьми.
Больше огня, больше славы, смотри, Ханма, сколь строг твой новый господин. Смотри и запоминай, чтоб не смела и думать об ослушании. Ханма и смотрит, многоглазая; Ханма расползается, несет по улочкам ручьи слухов, стучится в двери, предупреждает:
— Берегитесь, люди, быть беде!
Быть. Гудит-летит пламя, завораживает. Неотрывно глядит на дело рук своих каган Ырхыз, которого уже спешат наречь Злым, ласкает старую камчу и думает, а о чем — кто знает? Заворожен и не видит, как пусто стало на помосте. Сгинула стража в цветах Агбай-нойона, и сам он, и светлейшая каганари, и князь Юым, и даже кормилица его вечно сонная. Исчезли паланкины, гусиным косяком потянувшиеся не к воротам Ханмы, но туда, где еще воняет мочой и олифой, где стоят шатры и табуны Агбая, где ждут хозяина верные вахтаги.
Ударят? Уйдут?
Скорее второе, чем первое.
— В мой замок, — наконец, прерывает молчание Ырхыз, и ветер, подхватив горсть жирного пепла, спешит приветствовать кагана.
Ханма-замок встречал хозяина. Стелил ковры и тянулся покорными руками слуг, кланялся, сыпал наспех ободранные лепестки цветов под конские копыта и кричал:
— Слава!
Как зимой в Гаррахе, но тогда в криках была толика надежды. Теперь же в них лишь страх. Его не спрятать за подобострастными позами и по-праздничному яркими одеждами. Как не спрятать и ожидание, и немой вопрос: что сделает каган? Рванет Золотую Узду? Перетянет, выдирая с кровью удила, стократно усиливая гнев и безумие? И не об этом ли размышляет сам Ырхыз? В лицо бы заглянуть, но не выйдет — держится в седле ровно и строго, смотрит прямо перед собой, и ведь, проклятье, видит совсем не то, что следовало.
Люди Агбая исчезли из толпы.
Гыры тоже уходят в тень, давая понять: решение еще не принято.
Мелочь человеческая волнуется, мечется водой в канаве, и не понять, то ли поддержит, то ли накроет волной, пригибая ко дну, заставляя хлебнуть зеленой жижи.
— Слава кагану! — верноподданнический фальцет, и конь сбивается с шага.
Оттеснят. Как пить дать оттеснят. Кто она, Элья, такая, чтобы следовать за каганом? Странно, что еще не…
— В сторону, — взлетает плеть перед лицом, обвиваясь вокруг кожаной перчатки. Оскал. Чужой жеребец протискивается в щель, чья-то нога поддевает под стремя, пытаясь сбросить. И поневоле приходится вцепиться в седло, разом позабыв, что она умеет ездить.
Не умеет. Теряется. Спина Ырхыза далеко, а вокруг люди. Много людей. Лица-морды, золото и серебро, шелка и высокие плюмажи. Шипение. Крики. Сутолока. Стоит упасть, и затопчут, сомнут в алое, как смяли лепестки. Снова удар, походя, по морде конской, заставляя пятиться и подниматься на дыбы. И еще по крупу. По руке. Что с ними твориться? Безумие же!
— Прекратите! — Элья перехватила плеть, но от рывка чуть не вылетела из седла.
Затопчут. Из тихой ненависти затопчут, из зависти, из попытки зацепиться в будущем, которого еще нет. Она мешает. Потому что — склана, потому что рядом, потому что при властителе. Мешает… А может просто и бездумно, только из-за нелепой случайности и сослепу. Но она умрет. Никто не виноват, не удержалась в седле, не успели спасти, не сумели помочь…
А Ырхыз исчез, скрылся в проеме ворот, куда ее не пустят. Что ж, вот и свобода: бери сполна, разворачивай коня и плетью его от души. Прочь, прочь, прочь… Куда? А некуда, как полгода назад. И даже хуже. Либо клетка, либо клинок — склан ненавидят, несмотря на перемирие — отложенная смерть против неотложной живой ненависти. И тегин — нет, каган! — по-прежнему один, но уже против всего Наирата.
Значит, пробиваться. Плети нет, ну и пусть!
— Р-ра! — Элья впечатала каблуки в конские бока, заставляя вписаться в поток. — Пшел!
Теперь Ырхызу помощь нужна даже больше, чем прежде, а потому — прорываться, крича во всю глотку:
— С дороги, сучьи дети!
И ждать удара. Люди не стерпят. Или?.. Пропускали, а потом поводья перехватила рука в черной перчатке, и раздраженный Морхай рявкнул в ухо:
— Какого хрена отстаешь? Дороги! Дороги, мать вашу!
Засвистела, заставляя расступиться, плеть, перебитым крылом повис, съехав набок, синий плащ табунария, и люди, признавая право на власть, расступились.
— Рядом будь, — велел Морхай, отпуская поводья. — Мне сейчас только на тебя и отвлекаться.
Замолчал, увидев Ырхыза, поклонился и указал на Элью:
— Вот она, мой каган.
Позже эти два слова — мой каган — повторяли на разные лады, на многие голоса, выплетая из них верноподданническую ложь, которую Ырхыз видел, но которой не мог противиться.
Да, он каган.
Сердце Наирата, сила Наирата, плеть, рука на ошейнике зверя. Удержит ли?
Сургуч на печати еще не застыл, и, разломанная пополам, она протянулась тонкими нитями, точно требуя закрыть документ.
— Каков будет ответ? — осмелился нарушить молчание гонец.
— Ответа не будет, — Агбай-нойон отправил свиток в жаровню. — Или нет, передай дорогому другу Кырыму, что случившееся подорвало здоровье моей сестры. Слабая женщина, она скорбит по супругу и не желает, чтобы у этой скорби были свидетели.
Каганари кивнула. Освобожденное от позолоты лицо ее было бледно, глаза лихорадочно блестели, а нос припух.
— И еще передай, что я по праву брата беру светлейшую Уми в свой дом, под руку свою, и обязуюсь всячески заботиться. Она ни в чем не будет испытывать нужды.
Гонец спешно покинул шатер, поклониться он забыл. Или уже знал, кому не стоит кланяться?
— Разумно ли это? — тихо спросила каганари, вытягивая из прически шпильки. — Может, следовало бы явиться? Успокоить. Не станет же он убивать при всех.
— Он безумец, и он теперь каган. Пускай еще не принявший Благословенную камчу и плети верных ханмэ, но что бы он ни приказал — исполнят. И радуйся, что «приглашение» не от него, а от старой сволочи Кырыма. Да только он мне не указ. А сумасшедший щенок слишком занят собственным безумием. И весь Диван занят наверняка им же. Пока все очнутся, мы будем далеко.