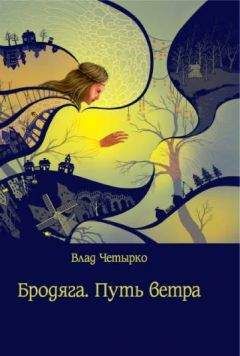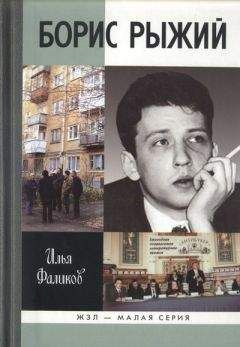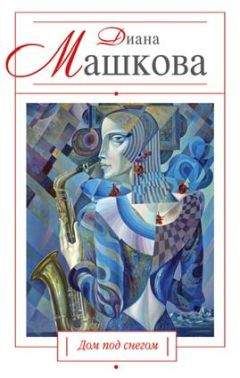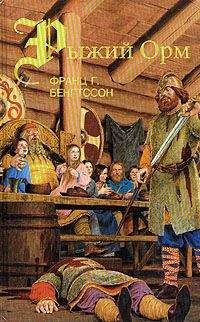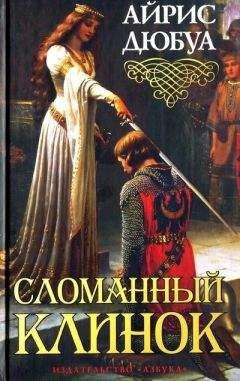Ян промолчал…
Попрощались сухо, так и не подав друг другу руки. Яну хотелось поблагодарить Всадника за добрую весть — и в то же время не хотелось говорить вообще. Тьери шагнул с обрыва, раскинув руки, на ходу ставшие крыльями. Золотом сверкнула чешуя резко вытянувшегося тела — тела, которое никакие крылья не подняли бы в небо без легендарной драконьей магии.
Ни слова, ни брошенного назад взгляда. Пришел — исполнил порученное — ушел, не оглядываясь. Яну не хотелось так расставаться, и, зачерпнув памяти у обруча, он начал искать подходящие слова. То ли благодарность, то ли — пожелание…
«Живи счастливо и умри человеком, Всадник!» — вспомнив, наконец, принятое на Кехате прощание, Ян потянулся мыслью к плывущей далеко на небосводе золотистой точке.
«Тебе того же, Бродяга!» — долетело из-под облаков.
Вспоминая эти слова впоследствии, Ян все яснее понимал, что смысл их куда глубже простой вежливости.
«Тебе того же…»
* * *
Ян пробирался через еловый лес, осторожно отгибая мохнатые нижние ветви. В лесу царил полумрак, и трава под елями не росла, а на слежавшейся хвое бродяжьи сапоги не оставляли следа. Шел он, на первый взгляд, совсем не туда, куда нужно было: столица осталась далеко на северо-западе. Месяц ходу, а по осеннему мокропутью — и того больше. А разгоняться так, как Бродяга любит и умеет, можно далеко не всегда и не везде. Поэтому сейчас Ян искал не дорогу.
Ему нужна была река.
И через ельник до нее было ближе всего.
Еще три шага — и под ногами похрустывает камень. Давно лежавший здесь, обласканный водой и солнцем… Морская галька подошла бы больше, да и сама река — излучина потока, сбежавшего с гор, но уже остепенившегося и готового притвориться добропорядочной равнинной рекой — была мало похожа на привычный Яну пляж на южном берегу Торинга. Но выбирать не приходилось.
Наклонившись, Ян поднял обточенный плоский голыш.
И, примерившись к речной глади, метнул — сначала камень, а потом, вслед за ним — самого себя. Только галька, отскакивая, летела над водой, а Ян — над миром, едва касаясь его.
Каждое прикосновение камня к голубому зеркалу — короткая вспышка образов вокруг Бродяги: предгорный лес; сереющая осенняя степь; снова лес, но уже широколиственный, сбросивший листву к зиме; и, наконец, широкая, похожая на озеро река — Леатта Имменари.
Камень достиг другого берега и, звонко цокнув, лег среди галечника.
Бродяжьи сапоги, мягко спружинив, замерли на знакомой брусчатке у ворот Кэйм-Батала — если быть совсем точным, ворот, именуемых Речными, потому что в стене Кэйм-Батала их восемь… Хоть и называют этот город девятивратным. Почему — история другая, но разве до историй сейчас Бродяге?
Ворота остались позади, и, привычно вписывая свой путь в хитросплетение улиц Малого Порта, Бродяга поспешил на проспект Золотых Львов. Он шел, минуя дома и лавки, мастерские и трактиры, и, среди прочих, неприметное здание с известной по всему Альверону вывеской: сияющий шар в протянутой руке и надпись «Имеющий Свет да поделится». Чем-то знакомым повеяло от полукруглых каменных ступеней — и Ян, остановившись на мгновение, обернулся.
Здесь был след, который он так долго искал, след явный и ясный, несмотря на многомесячную давность — но уже ненужный.
Так или иначе, Бродяга трижды подумал бы, прежде чем ступить на территорию Ордена Света, пусть даже это не консулат, а просто лечебница, в которой помогают всем и никогда не задают ненужных вопросов. Знать бы еще, зачем Мари заходила сюда… Где-то под ложечкой шевельнулось запоздалое беспокойство, и Ян ускорил шаги.
* * *
Боль, чуть приглушенная Силой целителей, но не менее острая…
Крик…
Усилие, способное, наверное, зажечь звезду — или выпустить в мир новую жизнь.
Плач — тонкий, тихий и в то же время мелодичный, как самая лучшая на свете песня.
«Девочка у тебя… Дочь. Велли, давай полотно…»
Слезы застилают глаза, мешая видеть — только слезы уже не от боли, а от сумасшедшей радости, отголоски которой не погаснут еще несколько часов, лишая сна.
И крохотное тельце ребенка в руках сестер Света выглядит самым совершенным из всего, что есть в мире; и Мари не замечает, что седоголовая старшая целительница смотрит вовсе не на дитя…
…Взгляд ее сосредоточено изучал ямку у основания шеи роженицы, меж ключиц.
* * *
Светильники в коридоре пригашены на ночь, но не до конца: их свет разгоняет не только тьму, но и заразу; поэтому перед палатой крестьянина, заболевшего ропотухой, свет горит в полную силу, чтобы хворь не расползлась по всей лечебнице. И точно так же ярко — хотя и по обратной причине — горит светильник у палаты, в которой находятся ведунья и ее дочь: ничто худое не должно проникнуть сюда; ничто не должно угрожать жизни, которая только началась. Жизнь есть свет, и материнство — свято. Это истины, в которых не позволит себе усомниться ни один светлый маг — будь он воином, целителем, учителем или одним из тех, кому приходится совмещать первое, второе, третье и еще очень многое. Это — понятно, привычно, естественно. Иное дело, когда речь идет о непривычном, мало того — небывалом. И даже не речь, а самый что ни на есть спор.
Именно это происходило в келье старшей целительницы, и, хотя комната ее была в дальнем конце коридора, Мари слышала каждое слово.
Голос — девичий, резковатый, дрожащий от гремучей смеси страха и азарта:
— У нее же знак!..
Мари узнала этот голос. Так говорит Велли, большеглазая девушка-фэннийка, недавно поступившая в ученицы к хозяйке приюта Лайэ.
— Я его тоже видела, — звучит ответ, и в нем — холодок предостережения. Но Велли не может остановиться, не выпустив пар:
— Она — из этих… с севера. Маг-убийца, проклятая и обреченная на бездетность… «ардар».
— Их называют уртарами, Велли, — спокойно поправила Лайэ. — И значит это на шесс-радате всего лишь — «опоясанный». Кстати, пояса-то у нее и не было, заметила?
Велли обескуражено кивнула. Наставница продолжила тем же размеренным тоном:
— Ты, однако, права: детей у них не бывает. А эти роды мы принимали вместе.
— И… что теперь? — осторожно спросила девушка.
— Значит, она — не уртар, — пожала плечами Лайэ. — Успокойся. Консулу я сообщу. Если нужно, старшие ее найдут. А мы… Света ради, позволим ей пожить здесь три недели — как всем. Потом ей придется уйти.
Лицо молодой целительницы приобрело озадаченное выражение, сменившееся отрешено-серьезным, неожиданно жестким. Зеленовато-карие глаза прищурились: