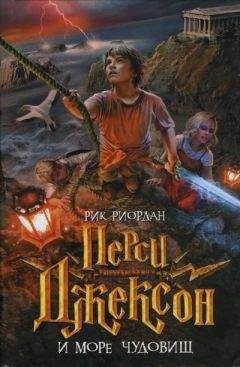Аннабет плыла к ним.
Я понимал, что не должен дать ей выйти из воды. Море было моим единственным преимуществом. Оно всегда так или иначе защищало меня. Я кинулся вперед и схватил Аннабет за лодыжку.
Как только я коснулся ее, меня словно током ударило, и я увидел сирен такими, какими их должна была видеть Аннабет.
Три человека на пикнике в Центральном парке. Перед ними на скатерти — разная вкуснятина. Я узнал папу Аннабет по фотографиям, которые она показывала мне, — атлетически сложенный мужчина в расцвете лет, с рыжеватыми волосами. Он держал за руку прекрасную женщину, очень похожую на Аннабет. Одета она была неброско, в джинсы, хлопчатобумажную рубашку и высокие ботинки, но все в ней излучало могущество и власть. Я понял, что гляжу на богиню Афину. Рядом с ними сидел молодой человек… Лука.
Вся сцена светилась теплым, желтоватым светом. Все трое болтали и смеялись, а когда увидели Аннабет, лица их озарились радостью. Мама и папа Аннабет призывно протянули к ней руки. Лука усмехнулся и жестом показал, чтобы Аннабет села рядом с ним, словно никогда не предавал ее, словно они все еще были друзьями.
За деревьями Центрального парка вставали очертания города. У меня перехватило дыхание, потому что это был Манхэттен… но в то же время и не Манхэттен. Он был полностью перестроен, передо мной высились дома из ослепительно белого мрамора; с обрамленными золотом окнами и разбитыми на крышах садами он стал больше и величественнее, чем раньше. Это было лучше, чем Нью-Йорк. Лучше, чем Олимп.
Я сразу же понял, что все это спроектировала Аннабет. Она была архитектором целого нового мира. Она воссоединила родителей. Спасла Луку. Сделала все то, что всегда хотела.
Я с трудом отогнал от себя это наваждение. Открыв глаза, я увидел сирен — жутких стервятников с человеческими лицами, поджидающих очередную жертву.
Я потянул Аннабет обратно в волны прибоя. Она пронзительно закричала, но я не мог разобрать, что именно. Потом ударила меня ногой в лицо, но я устоял.
Усилием воли я приказал течениям вынести нас из залива. Аннабет молотила меня руками и ногами, поэтому сосредоточиться было трудно. Она отбивалась с такой силой, что мы чуть не столкнулись с плавучей миной. Я не знал, что делать. Если она не перестанет драться, я уже никогда не вернусь живым на судно.
Мы скрылись под водой, и Аннабет прекратила сопротивляться. На лице ее появилось смущенное выражение. Затем, когда мы вынырнули, она снова принялась лупить меня.
Вода! Звук плохо проникает сквозь воду. Если бы мне удалось продержать Аннабет под водой достаточно долго, чары пения рассеялись бы. Конечно, Аннабет не сможет дышать, но сейчас это казалось не столь важным.
Я покрепче обхватил ее за талию и приказал волнам укрыть нас.
Мы стали погружаться — десять, двадцать футов. Я знал, что должен быть осторожнее, потому что могу вынести гораздо большее давление, чем она. Она задыхалась, не переставая размахивать руками, вокруг нас вспенивались пузырьки.
Пузырьки!
Меня охватило отчаяние. Надо было спасти Аннабет. Я представил себе все пузырьки в море, поднимающиеся кверху и сливающиеся в один. Я представил, как все вместе они устремляются ко мне.
Море повиновалось. На нас ринулся белый поток, все тело мое начало покалывать, а когда зрение прояснилось, мы с Аннабет оказались внутри огромного воздушного пузыря. В воде были только наши ноги.
Аннабет тяжело дышала и кашляла. Ее била крупная дрожь, но, когда она взглянула на меня, я понял, что волшебство рассеялось.
Она разрыдалась, это были ужасные, душераздирающие рыдания. Потом Аннабет положила голову мне на плечо, и мы замерли.
Рыбы собрались, чтобы посмотреть на нас, — стая барракуд, несколько любопытных марлиней.
— Кыш! — сказал я им.
Они отплыли, но неохотно. Клянусь, я понимал их намерения. Они собирались распустить по всему морю слухи о том, как сын Посейдона обнимается с какой-то девушкой на дне залива Сирен.
— Мы доплывем обратно до судна, — сказал я. — Все в порядке. Просто держись.
Аннабет кивнула, чтобы дать мне понять, что ей уже лучше, потом пробормотала что-то еще, но я не расслышал из-за воска в ушах.
Я заставил течения провести нашу воздушную подводную лодку мимо скал и сквозь колючую проволоку к «Королеве Анне», которая медленно, но уверенно держала курс прочь от острова.
Мы оставались под водой, следуя за кораблем, пока я не решил, что мы вне пределов досягаемости сирен. Затем я вынырнул на поверхность, и наш воздушный пузырь лопнул.
Я приказал веревочному трапу спуститься с корабля, и мы взобрались на борт.
Затычки из ушей я не вынимал просто для верности. Мы плыли, пока остров окончательно не исчез из виду. Аннабет, съежившись, сидела на полотенце на передней палубе. Наконец она взглянула на меня все еще затуманенным и печальным взглядом и еле слышно произнесла:
— Все, отпустило.
Я вытащил затычки. Никакого пения слышно не было. День стоял тихий, только волны плескались о борт корабля. Туман испарился, исчез в голубизне небес, словно острова Сирен никогда не существовало.
— Ты в порядке? — спросил я.
Едва сказав, я понял, как неуклюже это прозвучало. Все ведь и так очевидно.
— Я не понимала, — пробормотала Аннабет.
— Чего?
Ее глаза были такого же цвета, как туман на острове Сирен.
— Какой может быть сила искушения.
Мне не хотелось рассказывать Аннабет о том, что я видел счастье, обещанное ей сиренами. Я чувствовал себя так, словно незаконно проник на чужую территорию. Но мне показалось, что в этом — мой долг перед Аннабет.
— Я видел твой перестроенный Манхэттен, — сказал я. — И Луку, и твоих родителей.
— Ты видел это? — вспыхнула Аннабет.
— Помнишь, что Лука сказал тебе на «Принцессе Андромеде»… чтобы начать все заново, надо перестроить старое…
Аннабет закуталась в одеяло.
— Моя роковая ошибка. Вот что сирены показали мне. Мою роковую слабость — хубрис.[17]
— Эта коричневая дрянь, которую кладут на сэндвичи с овощами? — Я заморгал от удивления.
Аннабет, в свою очередь, вытаращила на меня глаза.
— Нет, рыбьи мозги. Ты имеешь в виду хумус.[18] Хубрис, то есть высокомерие, гораздо хуже.
— Что может быть хуже хумуса?
— Высокомерие — это крайняя степень гордыни, Перси. Сознание, что ты можешь делать все лучше кого бы то ни было… даже богов.
— И ты такое испытывала?
Аннабет опустила глаза.
— Перси, неужели у тебя никогда не возникало чувства, что мир — это помойка? Что, если бы мы смогли начать все заново, представляешь? Никаких войн. Никаких бездомных. Никаких домашних заданий на лето.