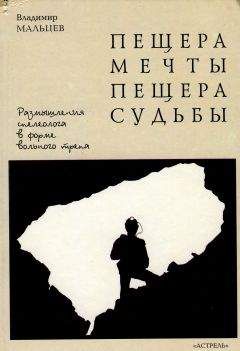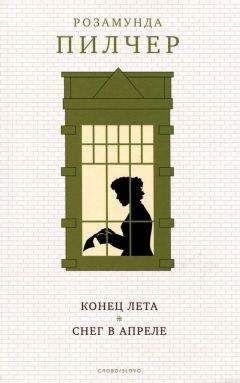— Давайте позже об этом, отец, — настоятельно предложил Курт, когда голос духовника сорвался, и тот, словно не услышав его, продолжил:
— Простые мирские нужды порою могут переломить ход любой игры так, как не способны никакие малефики и тайные секты. Вас обоих ждет Сфорца, и с ним вы еще поговорите об этом, и отнеситесь к его словам серьезно; в первую очередь это касается тебя, Бруно, однако и ты как действующий следователь, как человек, живущий в мире и кроящий мир — должен принимать во внимание то, что услышишь…
Последнее слово отец Бенедикт выронил, словно внезапно споткнувшийся водонос — наполненный кувшин; воздух ворвался в грудь с хрипом, и Курт, ругнувшись, подорвался с табурета, бросившись к двери. Открывшаяся створка едва не ударила его в лицо; лекаря, переступившего порог, он чуть не сшиб с ног, и на миг в проходе случилась заминка.
— Ах ты, дерьмо… — вырвалось из уст академического эскулапа, когда Курт поспешно отступил в сторону, и Рюценбах ринулся к постели, где уже задыхался бледный, с сереющими губами старик. — Хартман! — повысил голос лекарь, и помощник, идущий следом за ним, втянул голову в плечи. — Ты давал ему настойку, подлец?!
— Один раз, — потерянно пробормотал тот. — Половину дозы…
— Не дави на парня, — чуть слышно, с натугой выдавил наставник, не открывая глаз, и Рюценбах оборвал уже на пределе крика:
— А сам ты о чем думал, старый болван! Хартман, мерзавец, bacca convallium, двадцать капель, живо!
— Он будет в порядке? — осторожно вмешался Курт и отступил назад, когда медик академии, на мгновение обернувшись, рявкнул зло:
— Вон из комнаты, Гессе, пока цел, или я за себя не отвечаю!
Помощник лекаря, едва не столкнувшись с Бруно, кинулся в свой предбанник, и Курт, помедлив, тронул напарника за плечо, медленно развернувшись и выйдя прочь.
Лекарь выглянул в коридор нескоро и застыл на пороге, оглядывая уже изрядно встревоженное собрание подле двери. Наткнувшись взглядом на Курта, Рюценбах нахмурился, поманив его рукой, терпеливо дождался, пока он вместе с помощником войдет в тесную комнатушку со склянками, и аккуратно, стараясь не стукнуть, прикрыл дверь. Хартман, понурый и словно какой-то смятый, сидел в самом углу, тщательно оттирая что-то с ладони влажной ветошью, и был поглощен этим занятием, казалось, более всего на свете.
— Бенедикт просил не возить вас мордой по полу при всех, — недовольно сообщил лекарь. — Посему поговорим здесь.
— О чем? — уточнил Бруно, и тот кивнул:
— Верно, Хоффмайер, говорить здесь не о чем. Просто я еще раз повторю уже сказанное, а вы на сей раз попытаетесь это осмыслить. Он болен. Что я должен еще сказать, что должно еще случиться, чтобы вы это уяснили?
— Он не болен, — возразил Курт. — Он умирает.
Рюценбах запнулся, глядя на него почти уже враждебно, и, помедлив, вздохнул, опустив голову и с напряжением потерев ладонью лоб.
— Это верно, — обессиленно согласился лекарь. — Возразить нечего. Да, Гессе, я знаю, что когда-нибудь вот это, — он вяло махнул рукой на тихую комнату за своей спиною, — случится снова, и завершится уже не так… благополучно, я б сказал, как сегодня.
— Как он? — чуть слышно спросил Бруно; тот кивнул:
— Спит. Обошлось. Сегодня — обошлось. Но только слепец или дурак не понимает, что однажды не обойдется. Я, парни, зряч и умственно полноценен, а потому знаю, что однажды это сердце остановится навсегда, и понимаю, что это может случиться в любой момент — во сне, за завтраком, днем или ночью. Или во время беседы с одним из тех, кто вот так рвется его увидеть. И вовсе не обязательно причиной к тому станет невовремя поданная настойка или особенно волнующая тема в разговоре… Но, Господом Богом прошу, Гессе, Хоффмайер — не давите. Не усугубляйте уже того, что есть.
— Разговор шел спокойно. Никаких особенно тревожащих тем не поднималось.
— Я ведь сказал — понимаю. Я не виню Хартмана, — снова вздохнул лекарь, и его помощник на миг искоса поднял к нему несчастный взгляд. — Не виню вас двоих. Знаю, что время придет тогда, когда это решится там, наверху. Всё по воле начальства, и все в руках его; haec veritas est[48] не только лишь в применении к вашей службе. И, Гессе: молодец, что позвал меня заранее. Чуть бы еще — и мог бы уже не успеть… Ну, хорошо, — сам себя оборвал лекарь. — Утряслось, Dei beneficio[49], так и Deo gratias[50]. Бенедикт велел направить вас к синьору Сфорце — тому, по видимости, тоже есть что вам сказать, вот только ближайший час он занят на плацу.
— На плацу? — переспросил Курт удивленно. — Что он там забыл со своей парализованной клешней?
— Как я погляжу, уважение к наставникам в выпускниках неизбывно, — нахмурился лекарь, бросив строгий взгляд на хмыкнувшего Хартмана. — А уж ты просто лучишься послушанием и почтением к старшим… Язык у него, если мне память не изменяет, остался на месте, и дать верный совет он все еще в состоянии. И одна рука все еще действует, а для вас, оболтусов, и этого довольно. Словом, пока можете заняться собою, на вас смотреть противно. Не думаю, что вы оба вздумали распространять моду на подражание Императору и, подобно всем богемским королям, решили обородатиться.
— Это мысль, — демонстративно царапнув многодневную щетину, заметил Курт. — Оная мода решила бы массу проблем. К слову, саксонские герцоги все поголовно тоже…
— Вон, — повелел лекарь непререкаемо. — Приведите себя в порядок. И идите-ка на кухню, перехватите хоть чего-нибудь; пост — дело хорошее, но до умерщвления плоти у вас еще нос не дорос.
— Носом не вышли — не Иисус, — согласился Курт со вздохом, и тот сдвинул брови круче:
— Это в каком смысле, Гессе?
— В смысле сорока дней, — пояснил Бруно, подтолкнув свое начальство к двери. — Есть очень хочется.
В одном и помощник, и лекарь были правы — голод одолевал не на шутку. Лишь явившись в академию, Курт был поглощен иными мыслями и иными заботами, затмевающими все остальные, и в первую очередь помыслы сиюминутные и приземленные, каковыми являлись отдых и пища. Единственное, что заботило еще полчаса назад — это встреча с духовником, каковая стояла под большим вопросом: задержка на день или час, да даже и, как знать, может — на минуту могла перечеркнуть все планы и надежды. Сейчас, когда волнение чуть улеглось, когда неведение более не тревожило душу, тело напомнило о собственном существовании и отсутствии в распорядке последних полутора дней такой немаловажной вещи, как питание. Да и во всем прочем лекарь академии был бессомненно прав тоже, ибо то, что можно было бы поименовать должным уходом за этим самым телом, также имело место давно и походя.