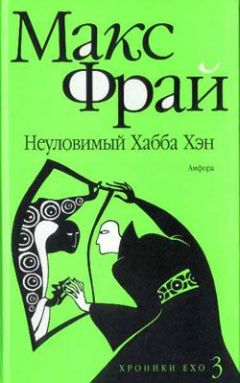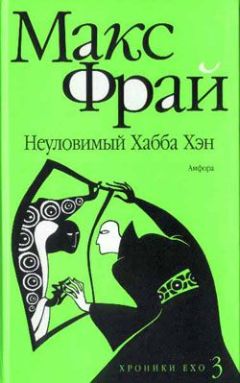Я обернулся, вопросительно приподнял бровь. Дескать, давай, не тяни.
— Безумный Рыбник, как я тебе уже говорил, никуда не делся, — торопливо сказал Шурф. — Он всегда со мной — а теперь, соответственно, с тобой. Справиться с ним не так уж трудно. Да ты уже прекрасно справляешься, я же вижу. Просто не забывай: разные неуместные мысли и желания, агрессивные и не только, не имеют никакого отношения к тебе. Да и ко мне, если уж на то пошло. Они уже давно не мои. Так, что-то вроде фантомных болей в ампутированной конечности — помнишь, ты же сам и рассказывал, что так бывает…
— Конечно, все это понятно, — согласился я. — Ты объясняешь вполне очевидные вещи и беспокоишься о сущих пустяках. Это не твоя вина, просто я сам таков. В любом случае спасибо, что стараешься беречь мои чувства. Но я с самого начала был готов ко всему и, честно говоря, ожидал худшего.
Он, кажется, очень удивился, но ничего не сказал. Только смотрел мне вслед, пока я не скрылся из виду, свернув из коридора в холл.
Оказавшись на улице, я выкинул из головы мысли о грядущих приключениях и смутной будущности моего друга. Дело было сделано, я предоставил его самому себе и судьбе, а значит, беспокоиться теперь бессмысленно. Я и не стал.
Для начала я решил просто пройтись по улице, присматриваясь к себе, прислушиваясь к ощущениям и анализируя результаты наблюдений. Так юные девушки учатся ходить на каблуках, так близорукие люди привыкают к первым в жизни очкам. Подумав, что мое нынешнее положение имеет известное сходство с описанными ситуациями, я был чрезвычайно доволен и горд собой, что нашел удачную метафору. Сейчас красота формулировок казалась мне чрезвычайно важным делом — не столько результатом работы ума, сколько необходимым для его совершенствования инструментом.
Однако несколькими минутами позже я обнаружил, что мой разум несколько переусердствовал в своем стремлении создавать безупречные формулировки. Голова моя к этому моменту до краев заполнилась четкими, лаконичными, глубокомысленными фразами. Усилием воли я легко мог бы разогнать эту крикливую стаю, но такой выход представлялся мне, страшно сказать, нецелесообразным. Прежде я никогда не думал, что мои собственные слова, пусть даже идеальным образом составленные в предложения, могут иметь хоть какую-то ценность; теперь же я искренне полагал, что они заслуживают лучшей участи, чем забвение. Однако постоянно повторять их про себя, твердить наизусть фразу за фразой, по ходу оттачивая, шлифуя формулировки, было еще менее целесообразно.
Тогда я принялся внимательно глядеть по сторонам и довольно быстро обнаружил лавку книготорговца. Время было позднее, но книжные лавки в Старом Городе открываются после полудня и работают до рассвета. Известно ведь, что с утра людям не до чтения: у одних служба, другие отсыпаются после вечеринки, третьи спешат на рынок за снедью. Ночь — совсем другое дело. Люди скучают, у них внезапно отменяются свидания и дружеские ужины, студентам надо делать домашние задания, дети требуют, чтобы мама почитала на ночь страшную древнюю легенду, а кого-то мучает бессонница, которую без запрещенных ступеней магии так просто не исцелишь. Самое горячее время для книжной торговли.
Поэтому лавка была открыта. Будь она заперта, я бы, честно говоря, не постеснялся разбудить торговца и его домочадцев. Мне было совершенно ясно, что дело у меня чрезвычайно важное и не терпит никаких отлагательств. Но обошлось без лишних хлопот.
В лавке хозяйничала рыжеволосая дама средних лет с тонкими запястьями подростка и круглым румяным лицом всеобщей любимицы. Я отметил про себя, что женщина достаточно хороша, чтобы провести с нею ночь, но не настолько, чтобы ее съесть. Отметил — это значит, что какую-то долю секунды меня натурально раздирали противоречивые стремления, я метался между вожделением и брезгливостью, не в силах остановиться на чем-то одном. Очевидно, это и были те самые неуместные мысли и желания Безумного Рыбника, от которых предостерегал меня Шурф. Он не взял в расчет, что обретенная вдруг возможность подчинить себе внутренний хаос, отстраниться от него и хладнокровно игнорировать всякую душевную бурю, как бы она ни бушевала, впечатлит меня куда больше, чем самые дикие и темные страсти.
— Мне нужна тетрадь, — сказал я.
— Тетрадь?
Рыжая явно решила, что ослышалась.
— У меня есть прекрасные самопишущие таблички, — защебетала она. — Совсем новые, из белой лохрийской глины, легкие и вместительные.
Я немного подумал, прислушался к себе и решил, что ее предложение мне не подходит. Самопишущие таблички — дело хорошее. Но для избавления от докучливых формулировок мне требовался привычный способ письма.
— Нет, нужна именно тетрадь. Чистая тетрадь из обыкновенной бумаги. И…
На этом месте я запнулся, поскольку понял, что так привык к волшебным самопишущим табличкам, что до сих пор толком не знаю, как в Ехо обстоят дела с прочими письменными принадлежностями.
— Карандаш, перо, все что угодно, — наконец сказал я. — Что-нибудь, чем можно писать на бумаге.
Рыжая озадаченно нахмурилась. Задумчивость была ей к лицу, и я великодушно решил, что съесть ее, пожалуй, тоже было бы приятно и полезно. По крайней мере, в определенных обстоятельствах.
Как ни странно, после этого умозаключения моя внутренняя буря окончательно утихла; теперь я был спокоен и собран не вопреки ей, а просто так.
— У меня нет бумажных тетрадей, — наконец призналась рыжая. — Но у брата антикварная лавка, тут, по соседству. Вы можете к нему зай…
Я не стал спорить, а лишь адресовал ей строгий взгляд, преисполненный вежливого недоумения. Дескать, я — клиент, я уже пришел в вашу лавку и не собираюсь бегать по всему городу за нужным мне товаром. Ваше дело предоставить мне необходимое, а мое — заплатить за вашу расторопность любую цену, которая покажется мне разумной.
К счастью, мне не пришлось говорить это вслух. Рыжая сама все поняла, умолкла на полуслове, испуганно моргнула и наконец сказала:
— Нет-нет, конечно же, я сама сбегаю и все принесу. Тем более брат, наверное, уже запер лавку. Тут рядом, я быстро, извините, что придется подождать, сейчас-сейчас…
Пока она суетливо выбиралась из-за прилавка, поправляла прическу и бочком пятилась к выходу, я хранил великодушное молчание. Помнил, что обучение этой дамы искусству сохранять спокойствие, правильно дышать и рационально двигаться не входит в круг моих непосредственных обязанностей. А значит, незачем делать ей замечания, хоть и хочется, конечно, немедленно исправить данный фрагмент картины мира, если уж во всей полноте эта грешная картина мне пока не по зубам.