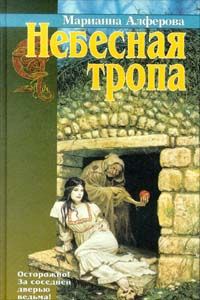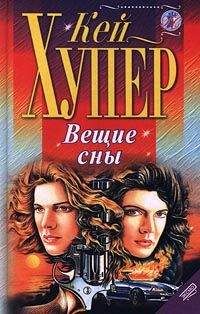Штабс-капитан демонстративно отвернулся и оперся на стоящий рядом стул — кабинетный, с высокой спинкой, украшенный резными львиными мордами. Только сейчас ЭРик сообразил, что видел эти стулья в квартире Милослава. Как странно! Остались только стулья.
— Пора нам наконец объясниться. — ЭРик злился на самого себя и на своего непонятливого предка. — Страничку из вашего дневника я нашел в альбоме с фотографиями, альбом тот лежал в комнате матушки моей Ольги Михайловны Крутицкой, невестки вашей, Станислав Николаевич.
— Невестка? Разве у меня есть невестка? — штабс-капитан позволил себе ироническую усмешку.
Однако ЭРик ничуть не смутился.
— У вас есть сын Сергей, так?
— Сереженьке только шесть лет. Да вы шутник, милостивый государь, как я посмотрю.
— Да, сейчас ему шесть, но многое случится потом. Я ваш внук, Станислав Николаевич, я пришел из будущего. И именно там, в будущем я нашел я нашел альбом с армейскими фото. На всех фотографиях вы срезали погоны.
— Будущее, — недоверчиво скривил губы Крутицкий. — Разве оно у нас есть? Известно ли вам, чем я сейчас занят? Нет? Я бросаю эту прекрасную квартиру и ищу себе маленькую неприметную норку. Потому что в этой квартире, где проживал штабс-капитан Крутицкий, прапорщику Крутицкому — как я имею теперь честь числиться по документам — не место.
— Вы боитесь? — спросил ЭРик.
— Представьте себе, да. Я три года провел в окопах, из прапорщика дослужился до штабс-капитана, был тяжело ранен. А теперь вздрагиваю, услышав шаги на лестнице, и просыпаюсь в холодном поту по ночам — мне все кажется, что за мной пришли. Никогда прежде мое положение не было столь унизительным.
— Возможно, это не предел.
— Не предел?! Не предел — сидеть в камере смертников, откуда моих товарищей каждодневно уводят на расстрел? А подлец, выскочка, самодовольный тупица еще и глумится над тобой? Этот мерзавец, гнусно улыбаясь, говорил, что питает ко мне благодарность и добрые чувства и потому меня не расстреляют. Разве это не предел? А я не мог плюнуть ему в лицо, потому что уж тогда точно бы получил пулю в лоб. Я обязан этому человеку, комиссару, жизнью.
— А может быть, надо было плюнуть? — спросил ЭРик.
Штабс-капитан сделал какой-то неопределенный жест и едва не сшиб подсвечник с догорающей сальной свечой.
— Вы правы, — проговорил он глухим голосом. — Я в самом деле сделался трусом. Смелость сделалась в нынешней жизни непозволительной роскошью.
— Я знаю: вас спас от расстрела Тимошевич.
— А что вы еще знаете? — опять едва заметная ирония в голосе.
— Мама рассказывала, что потом вы всю жизнь держали под кроватью пару белья, зубную щетку и кусочек мыла, чтобы взять с собой в случае ареста.
Крутицкий остановившимся взглядом смотрел на ЭРика.
— Ч-что еще? — вымолвил он наконец.
— В двадцатые годы вы мыли бутылки на «Красной Баварии», чтобы прокормить семью.
— Дальше… — голос штабс-капитана сел до едва слышного сипа.
— Вы ходили в оперу на галерку, в последний ряд. Туда же приходил ваш товарищ, лишившийся глаза на войне, — мама позабыла его имя. И он… Он говорил вам, кто из офицеров, с которыми вы когда-то служили, арестован и… Он говорил об этом на ухо, шепотом и плакал.
— Дальше.
— Больше ничего. То есть я не знаю больше ничего. Мама только это рассказала. Я вас не помню.
— Значит, я умру до того, как… Когда же? Впрочем, нет, лучше не говорите. Даже для меня это чересчур — сначала узнать, что жизнь, казавшаяся столь блестящей вначале, быстро превратилась в ничто. Простите. — Он замолчал, будто ожидал, что ЭРик еще что-нибудь скажет, но, не дождавшись, прошептал: — Надеюсь, вы мне просто-напросто снитесь.
— Если угодно, считайте, что так. Надеюсь, человеку из сновидения вы можете доверить тайну Перунова глаза?
— Может быть, и смогу, — штабс-капитан странно улыбнулся.
Он взял со стола толстую, переплетенную в коленкор тетрадь. Секунду медлил. Потом раскрыл тетрадь на последней странице и протянул Эрику.
— Читайте. Эту запись я сделал вчера.
— Он умер? — Кайрос-Шайтаниров дрожал от любопытства и часто-часто взмахивал заушными крылышками.
ЭРик лежал на дорожке сквера, раскинув руки и запрокинув к бледному небу лицо. Глаза его были открыты, и в них отражались плывущие в вышине облака. Несколько прохожих тут же сбились в плотное кольцо вокруг неподвижного тела. Анастасия с трудом растолкала любопытных и склонилась над ЭРиком.
— Он упал с неба, — говорила бойкая пенсионерка в ситцевом платье, мужских носках и калошах. — Я шла, а он буквально перед моим носом грохнулся о землю.
— Он прыгнул с колоннады собора, — заявил какой-то тип, одетый, как иностранец, но говорящий по-русски без малейшего намека на акцент. — Я успел сфотографировать. — На груди у него в самом деле висел фотоаппарат.
— Невозможно, — веско заявил другой мужчины, из породы знатоков. Если бы он прыгнул с колоннады, он бы сначала упал на крышу собора. Но даже если предположить, что уже оттуда он спрыгнул вниз, то он разбился бы на ступенях, а никак не здесь, в сквере.
Анастасия сдавила пальцами ЭРиково запястье.
— Он жив!
— Может быть, «скорую»? — предложила бойкая пенсионерка.
— Ему нужна помощь, но другая, — сказала Анастасия, — обводя взглядом толпу. — Иначе он умрет.
Толпа стала редеть. У тех кто остался, на лицах появилось отстраненное выражение, будто вывеска на дверях магазина: «Закрыто».
— Пустите! — долетел из-за спин стоящих женский голос.
Растолкав любопытных, внутрь круга протиснулась девушка в черном платье в обтяжку с открытыми плечами. Черные блестящие волосы и изумрудные тени придавали ее облику что-то зловещее.
— Пустите, — повторила она и опустилась на колени рядом с ЭРиком.
Анастасия колебалась, она чувствовала, что от девушки исходит сила, но какая сила — несущая спасение или смерть, — понять не могла.
«Все равно я уже ничем не могу помочь», — подумала Анастасия и нехотя уступила.
На мгновение взгляды женщин встретились.
«О да, она многое может, — мелькнуло тут же в мозгу Анастасии. Если… Если захочет».
Танчо наклонилась и поцеловала ЭРика в губы.
— Думаете, это поможет? — хмыкнул Гребнев. Он подошел вслед за Анастасией и Кайросом, и до той минуты стоял в толпе среди любопытных.
— Он возвращается! — с облегчением сообщила Анастасия и выпрямилась.
— Он в самом деле ездил в трамвае? — недоверчиво спросил Гребнев.
— Вполне вероятно.
ЭРик глубоко вздохнул, глаза его, прежде неподвижно смотревшие в небо, теперь закрылись, и между сомкнутыми веками проступила влага. Он поднял руки к голове, перевернулся на бок и, свернувшись калачиком, как младенец в утробе, замычал от боли.