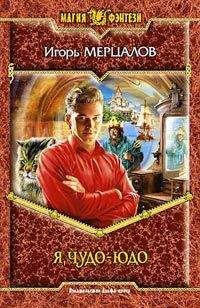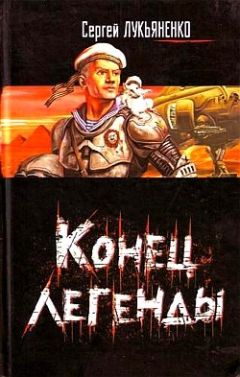И все-таки на душе у меня было неспокойно, когда я принес ему одно из оставшихся колец, которые держал на полке.
– Ты хорошо подумал? Мало ли что…
– Да не волнуйся, Чудо-юдо, все будет хорошо. Как там колдун говорил – на левый мизинец надеть и пожелать? – уточнил Платон, взял из моей лапы кольцо и без лишних размышлений нацепил на палец.
И никуда не делся. Мы обменялись удивленными взглядами. Ничего не понимающий Семен Гривна глядел на нас уже с явной опаской.
– Может, на правую руку? – спросил Платон и тут же попробовал – с тем же результатом.
– А ты старательно место представил?
– Конечно. Самое памятное выбрал – харчевню Фомы Наумича у причалов, где мы всей артелью проживали.
– Ежели ты с помощью колечка хотел там очутиться, – подал голос купец, – то опоздал на семь лет без малого. Был тогда пожар великий в Новгороде, причалы погорели, несколько ладей, дома на берегу, а с ними и харчевня.
– Верно? Не путаешь ли, Семен Алексеевич?
– Еще бы мне путать – как раз на одной из ладей мои пожитки дымом пошли. Все помню…
Интересно, как с такой патологической невезучестью он вообще ухитрился стать купцом?
– Тогда все понятно, – сказал я. – Кольцо не может доставить тебя в место, которого нет.
– Куда бы попробовать? – почесал в затылке Платон. – Скажи, Семен Алексеевич, что в Новгороде не изменилось за восемнадцать лет?
Купец пожал плечами:
– Да много чего. Церквы белокаменные, палаты боярские, сколь помню, как стояли, так и стоят. Ну это навряд ли подходит, да? Торговые ряды…
– Точно! В церкву этак влетать грешно, боярские палаты я лишь издали видел, а вот торговые ряды…
Он снова окольцевался – и на сей раз исчез. Охнул изумленный купец, тревожно мяукнул неведомо когда вернувшийся кот. В полнейшей тишине мы прождали минуту, две… так, во всяком случае, нам показалось.
– И что… – начал было говорить Семен, как вдруг горница вновь озарилась электрическим просверком и на пол рухнул Платон… охающий, стонущий, в изодранной одежде и окровавленный!
Мы все трое бросились к нему, подняли на руки, усадили за стол. Я велел Семену взять рушник и промокнуть кровь на лице ремесленника. По счастью, путешественник не был ранен, а кровь обильно текла только из разбитого носа. Левое ухо распухало на глазах.
Я снял с шеи лечебный амулет и поочередно приложил к пострадавшим точкам. Платон прокашлялся и сипло попросил:
– Еще к пояснице, пожалуйста… ага, и ребрам, вот тут. Уф!
Семен налил страдальцу вина:
– Хлебни, взбодрись.
– А теперь говори, что случилось-то, – поторопил я.
– Кольцо работает, да еще как, – все еще морщась, объявил Платон. – Славно работает. Очутился я прямехонько на рынке, как задумал. В глазах еще искры плясали, ничего не вижу, только чую – на чем-то мягком сижу. И шум новгородский, тысячеголосый вокруг. И вот среди этого шума чей-то крик: «Вор, держите вора, бейте вора!» Я так еще глаза протер, головой помотал – любопытно стало, про кого кричат… Оказалось, про меня. Счастье, что я быстро это понял, – помолчав, заключил он. – Успел колечко перекинуть. Кстати, забери его, Чудо. Ага, подальше, подальше положи…
Уяснив принцип управления кольцом, Семен Гривна был готов отправиться на Сарему хоть в ту же минуту. И хотя, глядя на него, трудно было предположить, что еще сегодня ночью этот человек прощался с жизнью, барахтаясь в бурных волнах ночного моря, я убедил его повременить хотя бы до завтра, а заодно хорошенько обдумать свое возвращение.
В целом он произвел на меня приятное впечатление. Был простоват, чем, надо полагать, по большому счету и объяснялись его неудачи в бизнесе, зато прям и искренен. В меру практичен и в меру сентиментален, вспыльчив, но отходчив, набожен, но напрочь лишен фанатизма. Единственно, он никак не мог принять космическое спокойствие Платона, когда заходила речь о некоторых, с его точки зрения абсолютно безусловных понятиях…
– Возвращайся, Платон. Руси дельные люди нужны. Хоть бы и на Сареме – мастеровой толковый, вроде тебя, как воздух нужен. Озолотишься!
– Красно говоришь, Семен Алексеевич. Но для того ли живет человек на земле, чтоб в золотом гробу схорониться?
– Да разве в том дело? Кто богат, тот, стало быть, людям нужен. Или хочешь сказать, я за-ради золотого гроба тружусь? Так мое богачество – это и церквы, и приюты, а моя десятина – это и государева двора украшение, и Русской земли процветание! Так что ты не думай, богатство – вещь тонкая. Тут золотым гробом не отделаешься.
– Без меня Русь жила, без меня и проживет. Велика она, матушка, грешно и думать, будто в ней один человек что-то значит.
– А не грешно ли будет, коли каждый человек вот этак рассуждать станет? Ты не серчай, Платон, но я тебе так скажу: ленивый ты человек, вот что.
– Я-то? С младых ногтей руки покоя не ведали…
– То руки, руки у тебя трудовые, а душа – ленивая. Все-то ей невмоготу, ни пострадать, ни повеселиться не хочет. Вот оттого ты и не любишь о родине вспоминать.
– Да при чем же тут родина?
– Она всегда человеку при чем. Трудились твои руки на радость шведам да туркам всяким, а сердце-то не болело, поди?
– Отчего? Такие же люди, творения Божий. Свою меру богатства и почета я в каждой земле получал, не лучше и не хуже, чем на Руси.
– Это потому, что душе твоей было лень рассудить, по правде ли живешь!
– По правде… А с какой стороны – правда? Вот мы стоим лицом к лицу, у меня справа лес густой, а у тебя справа – море широкое. Так где же правда?
– Это ты мудрено завернул. Да про то запамятовал, что нам бы с тобой не собачиться, а плечом к плечу стоять следовало.
– Может быть. Но ведь это все равно значит – против кого-то, а к кому-то спиной.
– Так ты решил всю жизнь вертеться, как ветряк? Нет, Платон, не пойму я тебя никогда.
Спорил Семен Гривна увлеченно, хорошо натренированным звучным голосом. По всему видно, любил в свободное время язык почесать. Особенно про огромную пользу, которую его «богачество» приносит окружающим – явно не первый десяток раз кого-то уверяет.
А Платон так и казался безмятежным, хотя, признаюсь, мелькнула у меня мысль, что только казался…
И разве не прав был купец, когда о ленивой душе говорил? Не применительно к Платону, применительно к нему пусть ремесленник сам разбирается, а вообще, по сути?
Этот вопрос почему-то вызвал во мне непонятное раздражение, и я, оставив спорщиков на берегу, пошел нырять. Я уже научился активно плавать под водой по четырнадцать минут, но в этот раз, кажется, побил собственный рекорд.
Проплывая над авангардистской мозаикой морского дна, бесцельно перебирая разноцветные окатыши, я вдруг подумал: какая роскошная аллегория! Вот мужики спорят, а тот из присутствующих, кто на самом деле золотой гроб зарабатывает, то есть я, ненавязчиво под воду ушел…