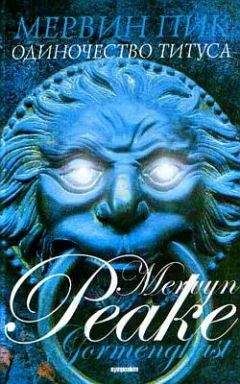– Мои атавистические, мои несдержанные друзья, – наждачным голосом проскрежетал Мордлюк, – я отлично знаю, что едва вы унюхаете друг друга, как становитесь неспокойными, бездумными и заходите… чересчур далеко. Я признаю возмужалость вашей крови, слепоту вашей прирожденной гневливости, узость вашей ярости. Но послушайте меня ушами вашими и наставьте на меня глаза ваши. Какие бы соблазны ни обуревали вас, какая бы первобытная тяга ни томила, все же… – (обращаясь к верблюду) —… все же тебе нет оправданий в мире, который от оправданий уже мутит. Не твое это дело – биться о железные прутья клетки, нет, – выламывать их, чтобы излить раздражение на нашего мула. И не твое это дело… – (он обратился к мулу) —… устраивать здесь кучу-малу и так громко реветь в нечестивом вожделении драки. Больше я этого не потерплю, друзья мои! Хватит с нас подобных напастей. Что уж такого, в конце-то концов, сделали вы для меня? Очень немногое, если не ничего. Я же – я питал вас плодами и луковицами, отшкрябывал спины ваши кривым садовым ножом, очищал ваши клетки лопатами с перламутровыми рукоятями, оберегал вас от плотоядных животных и кривоногих орлов! О, неблагодарность! Нераскаянность и порок! Вы посмели на глазах моих вырваться на свободу – и приняться за старое!
Оба животных заерзали, запереступали – один на подошвах размером с подушку, другой на ороговелых копытах.
– Отправляйтесь назад, по клеткам! Или, клянусь желтым светом ваших греховных глаз, я прикажу нарезать вас ломтиками и засолить!
Он указал пальцем на арочный проход, через который прорвались сюда звери, – проход, соединявший двор, в котором они стояли, с двенадцатью квадратными акрами, на коих животные всех мастей расхаживали по узким логовищам своим или сидели под солнцем на длинных ветвях.
Верблюд и мул свесили страшенные головы и побрели к арке, сквозь которую и протолкнулись бок о бок.
Что происходило в их черепах? Возможно, оба зверя с удовольствием размышляли о том, что после многих лет заточения им удалось наконец выплеснуть древнюю злобу и впиться зубами в шкуру врага. А может быть, удовольствие им доставляла мысль о горечи, которую они пробудили в сердцах прочих животных.
Они выступили из тоннеля, или длинного арочного прохода, с южной его стороны и сразу стали видны из двух, по меньшей мере, десятков клеток.
Солнечный свет опускался, подобный золотой кисее, на зверинец. Прутья клеток походили на золотые жезлы, косые лучи уплощали животных и птиц, отчего те казались вырезанными из цветного картона – или из страниц какого-то бестиария.
Каждая голова повернулась к нечестивой паре; головы шерстистые и головы голые; головы клювастые и рогатые; головы чешуйчатые и украшенные плюмажами. Все они поворотились, а поворотясь, застыли без малейшего шевеления.
Однако верблюд и мул ничуть не смутились. Они глотнули свободы, узнали вкус крови и теперь с неописуемым высокомерием ковыляли к своим клеткам, и толстые, синеватые губы их изгибались, приоткрывая мерзкие зубы, ноздри раздувались, а глаза желтели от гордости.
Если бы ненависть способна была их убить, они, подвигаясь к клеткам, издохли бы сотню раз. Безмолвие зверей походило на вздох, задержанный ребрами.
Но скоро оно было нарушено – яростный визг пронзил, подобно занозе, воздух, и мартышка – то был ее голос – в припадке зависти так затрясла руками и ногами прутья своей клетки, что железо залязгало, а визг все длился и длился, иные голоса начинали вторить ему, отдаваясь по всей тюрьме, и скоро каждое животное присоединилось к бедламу.
Тропики вспыхнули и взорвались в престарелых чреслах. Призрачные лианы обвисли, сочась ядом. Джунгли завыли, и каждому взвою отвечал другой.
Следом за слугами Титус миновал арочный проход и вышел под открытое небо – туда, где шум стал почти уже непереносимым для слуха.
Не более чем в пятидесяти футах от места, где он стоял, обнаружился Мордлюк, сидевший верхом на пятнистом олене – создании столь же мощном и сухопаром, как и его наездник. Одной рукой Мордлюк держал оленя за рога, другой отдавал безмолвные распоряжения слугам, уже начавшим под его руководством починку искореженных клеток, в которых сидели, зализывая раны и жутковато ухмыляясь, два лиходея.
Мало-помалу шум стих, и Мордлюк, оборотясь, увидел Титуса и властно поманил его к себе. Но Титус, уже собравшийся поздороваться с многоумным бандитом, сидевшим, напоминая некоего скорого на расправу бога, верхом на олене, остался на месте, поскольку не видел причины, по которой должен подчиняться ему, как собака свисту.
Увидев, что молодой бродяга не ответил на зов, Мордлюк усмехнулся и, развернув оленя, почти уж миновал своего гостя, как если б того здесь и не было, но тут Титус, вспомнив, что человек, приютивший его этой ночью, спас его от пленения, накормил и позволил выспаться, поднял вверх руку, словно желая остановить оленя. Глядя на всадника, Титус сообразил, что лица его до сих пор, в сущности, и не видел, – ибо Титус уже отдохнул, в глазах у него не мутилось, и голова Мордлюка оказалась теперь в пугающем фокусе, в фокусе, который скорей увеличивал, чем сжимал ее, крупную, с копной черных волос, с подобным румпелю носом, с глазами сплошь в крапинках и переливистом блеске, подобных алмазам или дробленому стеклу, и со ртом – широким, жестким, безгубым, подвижным почти богохульно, ибо обладатель такого рта никаким богам нипочем молиться не станет – подобный рот для молитв не пригоден. Голова эта была как бы вызовом или угрозой всем добропорядочным гражданам.
Титус собрался уже поблагодарить Мордлюка, но, вглядевшись в его резкие черты, понял, что никакого ответа на благодарность не последует, и потому первым заговорил Мордлюк, известивший Титуса, что если тот думает, будто он, Мордлюк, хотя бы раз в жизни пальцем шевельнул, чтобы помочь кому-то, а уж тем более кучке выловленного из реки тряпья, то он, Мордлюк, будет считать его, Титуса, протухшим яйцом всмятку.
Если он и помог Титусу, то единственно, чтобы развлечься да скоротать время, ибо жизнь может прискучить без действия, каковое, в свой черед, может прискучить без опасности.
– А кроме того, – продолжал он, глядя поверх плеча Титуса на далекого бабуина, – мне не нравятся полицейские. Не нравятся их ноги. Не нравится исходящий от них запашок кожи, масла и меха, камфары и крови. Я не люблю чиновников, каковые, милый мой мальчик, суть не что иное, как хвороголовая, хламобрюхая, смрадная гнусь земная. Тьмою рожденная.
– Что-что? – переспросил Титус.