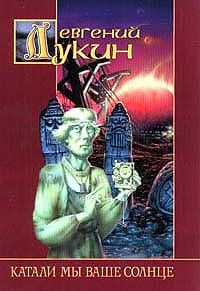— Все вокруг выродки, а мы с тобой, Кудыка, — берендеи, — проникновенно внушал десятник. — Сволочане тоже выродки, не лучше варягов… А настоящие берендеи — одни теплынцы…
— А что ж эти выродки лучше нас живут? — не выдержала Чернава. — И солнышко у них пожарче, и дни подольше… Чуть что не можем сделать — либо к варягам бежим на поклон, либо к грекам!
— Вер-рна! — сказал Мураш, округляя глаза. — Правильно, Кудыка, подметил… На поклон!.. А я тебя спрошу: кто нами правит?.. А?.. Не знаешь? Тогда отвечу… Выродки и правят. У царя Берендея мать варяжка, смекаешь?.. Стало быть, сын его Всеволок на целую четверть варяг…
— А Столпосвят?
— А вот Столпосвята не замай!.. Столпосвят — подлинный берендей. Он вообще не от батюшки своего, не от царя… Он, сказывают, от воеводы Полкана… Пошалила царица, сшутила шутку… А славный был воевода, не ной его косточка в сырой земле… Не зря, чай, Удатым прозвали. Там, говорят, уд был — с идольца резного… — Тут Мураш умолк и мучительно сморщился, что-то, видать, вспоминая. Вспомнив, вскинулся, выпучил глаза. — Слышь, Кудыка!.. — тревожно позвал он. — Я к тебе чего пришёл-то… Наладчики промеж собой толкуют, будто розмысла нашего смещать собираются…
Завида Хотеныча?.. Чернава тихонько ахнула. Страшными показались слова десятника. Да такой беды и с ломтём не проглотишь… Вот, стало быть, почему велела Перенега порчу-то навести…
— А?.. — рычал Мураш. — Единственного берендея во всей преисподней!.. Да ежели бы не он, не то что до Кудыкиных гор — до Мизгирь-озера солнышка бы ни разу не докатили!.. Вот они, варяги-то, что творят!.. Главный розмысл давно уж из рук у них глядит!.. Вставили, вставили они ему серебряный глазок[87] — помяни мои слова!..
— Что ж это будет-то? — еле вымолвила Чернава. — Неужто и впрямь сместят Завида Хотеныча?..
— Да мы им за розмысла… — Мураш угрожающе заворочался на скамье, силясь подняться. Тиснёный полумесяц во лбу его и не багровел уже — наливался синевой. — Преисподнюю спалим!.. Солнышко в Теплынь-озере утопим!.. Повымерзнут все, как в Чёрной Сумеречи, — узнают…
Встал, шатнулся и невольно ухватился за Чернаву. Тут, как назло, открылась дверь и в клеть вошёл Кудыка. Зипунишко на нём был забрызган грязью — не иначе, до участка до своего они с розмыслом добирались верхами. Узрев жену в объятиях Мураша, наладчик задышал, поискал глазами плеть, как вдруг заметил расставленные вдоль стены берендейки — и замер.
— Гляди-ка! — подивился он радостно. — А ведь вон ту, крайнюю, я резал!..
Отодвинул Чернаву с Мурашом и протиснулся к примеченной куколке.
— Слышь, Мураш Нездилыч, — похвалился он, любовно оглаживая хитрую, чуть ли не сквозную резьбу. — А меня розмысл с завтрашнего дня на лесоповал посылает. Главным наладчиком…
* * *
Тревожная выдалась весна, обильная грозными знамениями. То солнышко с восходом промедлит, то вылезет на поле брани чумазый бес с кочергой и всех разгонит… А ещё, сказывали, сбросят берендея в преисподнюю, а он, глядишь, гуляет себе живёхонек… Или вот брёвна поплыли по Вытекле. Даже и не брёвна, а целые сосновые хлысты. Диво, да и только! Тут лешие кола не дают вырубить, а с верховьев, вишь, лес идёт самосплавом… Ну, слобожане, понятно, не зевали: чуть покажется на излуке такая лесина — цап её крюком и к берегу… Ну да это знамение доброе, что о нём долго толковать!..
А вот с берендеем, воротившимся из преисподней и подавшимся в кудесники, намучились изрядно. Уже на третий день от него вся слободка древорезов стоном стонала. Раньше, сказывают, сам первым ходоком слыл по женской части, а как под землёй побывал — ровно с цепи сорвался, блуд искоренять начал… Придёшь к нему с жертвенными идольцами, а он тебя пытать: «Влагаешь ли персты в удицу супруги?..» Да какое твоё дело, куда я ей и что влагаю? Твоя, что ли, супруга-то?.. А чуть не так ответишь — искупай грех, неси лишнюю берендейку. А то ещё соберёт слобожан и начнёт баб попрекать заочно. Все их непотребства припомнит: и кивания, и мигания, и хребтом виляния… Сквернавицами честит, душегубицами… Зардеешься, слушаючи… Взял было да запретил посягать на жён по нечётным дням… Ну тут уж не стерпели — хотели идти бить его всей слободкой, и побили бы, кабы Шумок не стал отговаривать… Потоптали сгоряча самого Шумка, а на волхва уже сердца не хватило…
Трудные пошли времена, крутые. Царь-батюшка Берендей, провались он совсем, указами донял, сволочане вконец срам утратили — цены опять на хлебушек подняли. Эх, житьё-бытьё — вставши да за вытьё!..
Старый Пихто Твердятич поправил на плече суму и, опираясь на батожок, закултыхал по горбатой улочке к слободскому торгу. Отжил век, а пришибить некому… Вроде и от внука отрёкся вовремя, и двор сберёг, и дом, а всё одно ложись да помирай. Думал сперва: погневается батюшка-царь, погневается — да и смилуется. В прежние времена, как помнится, тем завсегда и кончалось… Да только где они, прежние-то времена?..
Что ни утро брёл Пихто Твердятич на торг указы слушать — всё ждал, когда Кудыке его непутёвому прощение выйдет. Так и не дождался… Ну а дальше дело известное: взвыла да пошла из кармана мошна!.. Выточенные внуком идольцы разлетелись меньше, чем за месяц, хоть и трясся над каждым старый, как над младенчиком. Побираться — неловко, да и не подаст никто. Стало быть, одно только и осталось — разорять помаленьку дом, распродавать по брёвнышку…
Навстречу по узкой улочке пара огромных вороных меринов влекла тяжёлую греческую телегу на восьми катках взамен четырёх колёс. Дед заблаговременно отступил в закоулок, пропуская повозку, пригляделся, что везут, и охнул. Из-под холстины торчала человеческая рука небывалой белизны. Точь-в-точь греческий камень мрамор… А спустя малое время старый смекнул, что мрамор это и есть. На телеге везли голого греческого идола, и почему-то в сторону капища… Плюнул дед и похромал дальше. Не любил он греков, а уж богов их срамных — тем более…
— Эй, старче… — негромко и гнусаво окликнул кто-то.
Пихто Твердятич упёр в землю батожок и повернул голову. В двух шагах от него, держа в поводу ладную гнедоподвласую лошадку, парился в крытой малиновым сукном шубейке рослый тугомордый отрок с дутой золотой серьгой в левом ухе. Из берегинь, не иначе. Ишь, вороньё! Почуяли падаль…
— Здравствовать тебе, молодец… — прошамкал Пихто Твердятич. — Никак милостыню надумал подать?..
Берегиня тупо моргнул. Такой, пожалуй, подаст! Руку прожжёт его денежка…
— Внук тебе кланяться велел, — всё так же тихо и равнодушно прогнусил отрок и как бы невзначай обозрел улочку из конца в конец.