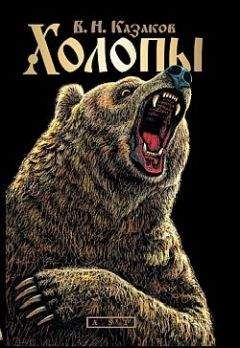Очнулась Эрми на луговине у водопада. Глаза открылись с трудом и не сразу. Окружающий мир показался ей некрасивым и чужим, захотелось перестать дышать, чувствовать, видеть, поскорее вернуться обратно, в блаженную легкость пустоты и пульсирующего света, однако оказалось, что по своему желанию человек этого сделать не может, для этого он должен умереть.
А потом прибежали все, галдели, трясли ее, тискали, щипали, заставляли пить, есть и, самое страшное, говорить. Говорить Эрмитадора упорно не хотела и боялась, голос был совсем не ее, она его пугалась и слышала словно со стороны, еще тяжелее было жевать и глотать пищу, поэтому, чтобы не обидеть Сар-мэна, она соглашалась пить чай и какие-то невкусные отвары. Тело постепенно вспоминало привычные движения, позы, жесты, но вместе с тем внутри разрасталось что-то новое, доселе неведомое и оттого пугающее. Женщина с удивлением отмечала в себе странные особенности, она не могла долго находиться на солнце, его тепло моментально обращалось в энергию, и тогда ее распирала необыкновенная жажда деятельности, а мышцы наливались свинцовой тяжестью и несвойственной ей ранее силой. С ее физическими возможностями творилось черт-те что. Как-то, возвращаясь в юрту атамана, она без особой надобности легонько пнула ногой здоровенный, с бычью голову, камень, а тот, словно волейбольный мяч, улетел далеко в сторону, благо никого не зашиб. Потом, чтобы себя проверить, Эрми рубанула тыльной стороной ладони по довольно толстой березе, и та, как подрубленная топором, рухнула к ее ногам. Или, например, беря в ладонь камень, она остерегалась раздавить его в пыль. Открытия эти нисколько ее не радовали, но оставляли абсолютно равнодушной, вроде так и должно быть. Еще одна странность поселилась в ней – привязанность к этому месту. Словно кто-то чужой ежеминутно напоминал ей о необходимости быть начеку, чувствовать тайную и невидимую жизнь окрестных гор, в которых было сокрыто что-то очень важное и недоступное для понимания. Были такие моменты, когда ей казалось, что она – обычный камень, каких вокруг разбросаны тысячи, часть этих угрюмых и гордых утесов, бесконечных распадков и осыпей, и что ей надо быть такой до определенного времени, до той поры, пока ее сила и все ее естество понадобятся для чего-то очень важного и ответственного. Эрмитадора с радостью понимала, что больше никуда она отсюда не уйдет, а будет всегда здесь, и этот подлунный мир станет ее вечностью, ее всепоглощающей бездной, и ради этого она готова была терпеть ставших ей в одночасье неинтересными людей, наивных и глупых, не понимающих своего истинного предназначения. Сар-мэн раздражал ее меньше всех, почему, она не понимала, а когда, выспавшись, он потащил ее в свою походную юрту, принялся целовать, шептать какие-то глупости и от нетерпения рвать на ней одежду, она, не зная зачем, повиновалась ему, а потом так вошла во вкус, что несколько раз заставила удивленного мужика повторить то, чего он так хотел от нее вначале.
– Ну, ты даешь, Эрмик! – восхищенно прошептал обессилевший атаман, засыпая сном молотобойца, вернувшегося вечером из кузницы.
Эрмитадора с удивлением отметила, что «это» осталось в ней таким же желанным, как и у той, прошлой, теперь уже далекой и не всегда понятной ей Эрми. Удивительно, но близость с мужчиной, как и долгое пребывание на солнце, заряжало ее новой энергией и требовало какой-то немедленной деятельности. Прикрыв одеялом наготу атамана, она оделась, вышла из юрты, бесцельно побродив по лагерю, набрела на поленницу дров, обрадовалась и, взяв в руки топор, принялась колоть дрова.
За этим занятием и застал ее Макута-бей со своей спутницей. Бабка внимательно осмотрела странную девку, легко машущую тяжеленным колуном с неподъемными даже для мужиков пихтовыми кругляками, покачала головой в выцветшем платочке и засеменила прочь, что-то шепча себе под нос.
– Ну и чего, тетка, скажешь? – нагнал ее бей. – Взаправдашний она человек или нежить?
– Ихняя она, ихняя! Токмо не ведомо мне, в чем сгодиться ей назначено, однось я те скажу, мил человек, не перечь ты ей для своей же пользы. Ох, и недобро будет тому, кто супротив ейной воли затеет чего сотворить! А лучше бы вы, голубы мои сизые, ступали себе по домам, покедова живы и здоровы, неча вам тут мозолиться. Коль оне ее здеся поставили, то уж, видать, все и сами знают, что да как. Так где ж твой хваленый чай, племяш? – Тетка задумалась, замедлила шаг, нагнулась, сорвала какую-то былинку, повертела ее в руках и, обернувшись к Макуте, добавила: – А мот, ты и прав, для подстраховки и вам след тутать поторчать энту ночку, пока все сокроется. Вестимо, береженого береженый бережет. Всамделешно давай-ка чаю, да пойду я. Вишь, солнечко на насест мостится, мой путь-от не близок, а водица шибко там нужна...
– Не переживай, тетка, дам я тебе и человеков, и коня, все в лучшем виде исполнят. А вот и дастархан наш, – произнес разбойник, заворачивая за небольшую скалу, где на широком горном уступе, нависающем над молодой речушкой, небольшой луговиной и тем самым странным водопадом мастеровитые горцы сварганили навес со столом и широкими лавками, покрытыми коврами. Во главе стола стояло большое атаманово кресло. – Ну, располагайся, старейшая моего рода, а я пойду Сар-мэна кликну.
– Да не дозовешься ты его, атаман, – отозвался откуда-то сбоку Митрич, – дрыхнет он мертвецким сном. Народ сказыват, с этой рыжей натешился до полной отключки и уже с час как спит, а зазноба его, слышь, колуном беспрестанно махат.
– Да уж надивились, – расположившись на скамье напротив тетки и начисто проигнорировав кресло, кивнул бей. – Митрич, ты бы это, с чаем распорядился, да пущай ведьмам от мене гостинцев соберут, глядишь, оно, мот, когда и сгодится. И еще, подбери пару хлопцев, да чтоб посмышленее и понадежнее, с теткой пойдут. И пусть с десяток порожних бурдюков соберут, бабка им покажет, где какой водицы набрать...
– Сама наберу, в энтом помочники без надобности, – перебила родственника довольная старуха.
Генерал-Наместник был весьма озадачен, ему только что доложили престраннейшую новость – в подведомственном ему и напрочь позабытом Всевидящим Оком Чулыме только что приземлился вертолет всесильного главаря опричников генералиссимуса Костоломского.
«Этого-то какие черти пригнали в наши края, и главное, в канун решающего этапа разработанной мной операции? Неспроста этакая оказия!» – перебирал тысячи различных ответов генерал, шагая по периметру своей резиденции, в которую временно превратили жилье томящегося в плену Понт-Колотийского. Воробейчиков, кадровый вояка, презирал людей песьего ведомства, без надобности не лез к ним в приятели да и руку пожимать не спешил, считая это ниже своего офицерского достоинства. А тут на тебе, самого главного людоеда черт пригнал! «Ох, неспроста этот визит, а главное, ничего хорошего сулить не может. Я и не упомню, чтобы этот людожор далее чем километра на полтора от трона отлучался, да еще так надолго». Наместник остановился у окна и принялся разглядывать неспешную жизнь сельского утра. В иные времена эта столь милая городскому сердцу идиллия привела бы подернутую черствостью генеральскую душу в подобие умиления, однако сегодня леность в природе и неспешнось в движениях людей и скотины его раздражали. «Вот из-за этого вечного непоспешания и проистекают наши извечные беды, в нем и сокрыты истоки нашего рабства и вечного господства над нами Костоломских и прочего сброда. И все же какого черта он сюда приперся? – повернувшись к окну спиной, продолжил невеселые думы Наместник. – Ну да ладно, появится, сам разъяснит. Однако встречать его я на крыльцо не выйду! Велика честь, пусть челядь лебезит».