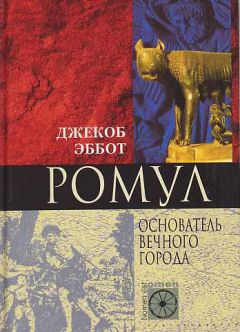Ерунда. Приметы. Знаки. Предопределение, говорите?! Не верю.
Тарквиний, около 70 лет, домашний раб.
Странная все-таки штука - жизнь.
Стариков все больше, а молодые умирают. Словно молодость - это болезнь, которая одних убивает, других же оставляет калеками. И вот они живут - те, кто выжил: изувеченные, изломанные, с согнутыми спинами, искореженными суставами, ослепшими очами. Волосы их побелели, зубы выпали, ноги у них трясутся, а воспоминания - неполны.
Счастливчики.
Мы выжили. Нам - повезло.
Доказательства? Это легко. Когда мой хозяин Гай учился у греков, я тоже кое-чего наслушался. Пожалуйста: доказательство от противного. Покажите мне хоть одного человека, что дожил до старости - молодым. Не можете? Все. Вопросов больше нет.
Я не помню, что я вчера ел на ужин. Не то чтобы мне хотелось это помнить - но надо, я каждый раз даю себе задание, чтобы не занеметь в этой неподвижности, что подступает ко мне со всех сторон. Она все ближе. Стоит замешкаться, дать неподвижности шанс - и она проникнет в тебя, захолодит конечности и заставит сердце биться через раз… через два… через… три… Вообще не биться.
Поэтому я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр… кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще.
Я так стар, что помню деда моего Гая, салажонка гордого. Деда звали так же, как и отца, - Луций Деметрий Целест, у них в семье старший сын завсегда - Луций, словно они других имен не знают. Высокомерие и гордость, проклятые римляне.
Я когда-то тоже был свободным. Наверное. Я уже не помню, как это было, я попал в Рим совсем мальчишкой. Узкие улочки, мощенные камнем, раскалялись докрасна под моими ногами. Я хорошо бегал тогда. Нас, мальчишек, гоняли как посыльных - беги туда, беги сюда, отнести то, не знаю зачем. И неважно кому. Важно - вовремя. В общем, беги, мальчик, беги. Опаздывать нельзя, выпорют.
А потом, когда я уже был взрослым, моя жизнь изменилась. Я до сих пор не знаю, почему дед мальчишки выбрал меня. Чем я отличался от других рабов? Я долго потом старался понять. Всегда хочется быть особенным, не таким, как остальные… Теперь знаю.
Я прожил на свете достаточно долго, чтобы понять. Ничем. Ни-чем. Здорово, да? Деду Гая это было не нужно. Ему был нужен раб для его внука. И все. Это я сейчас понимаю. А тогда много ерунды придумывал. Это бывает. Но тогда, в общем, я был доволен своей жизнью. Пока одним все, другим – ничего. И остается время поболтать с девчонками на господской кухне… Боги, как давно это было…
Многие умерли. Когда я закрываю глаза, мертвые мальчишки окружают меня. Иногда я даже с ними разговариваю. Им там одиноко, в их молодости.
А когда они уходят, я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр… кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще…
Молодость - это болезнь. Жаль, что мы так быстро выздоравливаем.
* * *
Давно замечено – утром все кажется лучше. И судьба, и время, и люди… И даже собственное лицо. Я разглядываю отражение в лезвии кинжала.
У людей, отмеченных богами, глаза разного цвета. У Александра Великого, рассказывают, один глаз был зеленый, другой карий. Или, по другой версии, зеленый и голубой. Впрочем, дело в другом. Александр Македонский захватил к двадцати пяти годам половину мира и дошел до далекой Индии. Потом, правда, умер. Его огромная империя развалилась на куски, когда тело Александра не успело даже остыть…
Кстати, это мысль. Может, мне к своему имени добавить прозвание «Счастливый»? А что, Гай Деметрий Целест Счастливый. Или, скажем, Гай Деметрий Целест Разноглазый Урод. Звучит.
Я убираю кинжал обратно в ножны. Прохожу по палатке – она огромная. Вот то, что я искал. От брата-легата мне в наследство досталось большое зеркало, я снимаю с него покрывало. Отлично! Полированная поверхность бронзы отражает напряженное лицо нового легата. Разноглазое.
Разве можно внезапно стать «Счастливым» в возрасте двадцати восьми лет? Впрочем, почему нет – цвет глаз же я поменял? Может быть, какая-нибудь местная Юнона Косматая положила глаз на красавца-легата (то есть меня), когда он проезжал мимо ее рощи по пути в легион. То-то у меня на днях спина чесалась… под левой лопаткой…
Положила глаз. Хм-м. Глаз… Глаз?
Я хлопаю в ладоши. Раб откидывает занавесь. Сонный, ленивый.
– Господин? – Он склоняет голову, ждет приказаний. Или спит на ходу – толком не разберешь.
– Передай преторианцам, что мы отправляемся в Ализон через час. Пусть будут готовы.
– Слушаюсь, господин.
Раб исчезает. Когда занавесь за ним перестает колыхаться, я выуживаю из ворота амулет, кладу на ладонь. Серебристая фигурка, обмотанная цветным шнурком, чтобы можно было носить на шее, отражает свет – куда там бронзовому зеркалу.
Она сделана очень искусным мастером. Птичка Воробей. А у германца по имени Стир – Бык из такого же металла. Я против воли вспоминаю, как германец выдергивал гладиатору конечности – легко, почти не напрягаясь. Р-раз! И готово. Капли крови, летящие над ареной, – почти черные… м-да.
Разные глаза и чудовищная сила – какой из этого вывод? А, Гай? Правильно. Я для интереса пробую поднять зеркало одной рукой. О боги. Потом двумя. Тяжеленное. Пальцы скользят по полированной поверхности. Мне удается приподнять зеркало на ладонь от пола.
Нет, моя сила с фигуркой не связана, похоже.
Трудно оставаться равнодушным к богам, когда так хочется поверить. Кто из обитателей Олимпа благословил меня? А сначала – Луция? А потом, видимо, – германца Стира?
Забавно быть любимцем богов. Особенно если эти боги – подземные. У греков Воробей – птица Плутона. Душеводитель. Я смотрю на фигурку. О Плутон! Я принесу тебе в жертву черного ягненка… Знать бы еще – зачем?