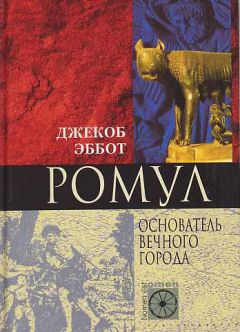Я вхожу в прохладный переход, ведущий к внутренним комнатам. Правое крыло – хозяйское, левое – для гостей.
Интересно, мой Тарквиний завел себе подружку из местных рабынь? Этот старик когда-то был еще тот бабник. Ни одной рабыне проходу не давал. Мне самому с трудом верится, но когда-то Тарквиний был силен и крепок. Статный, красивый, веселый. Многие рабыни по нему вздыхали. Помнится, я маленький сижу на кухне – по уши в сладостях, а Тарквиний в это время перешучивается с кухаркой. Смутные детские воспоминания.
Я улыбаюсь. А это мысль… Надо бы свести ту маленькую черную няньку с Тарквинием. А что? Прекрасная будет пара – особенно если она не знает латыни или, скажем, глухая. Тогда она сможет выносить его бесконечное ворчание! По-моему, великолепная идея. Высокий, хотя и ставший пониже с возрастом, седой Тарквиний и крошечная восточная старуха-нянька с черными глазами.
Заодно мне будет обеспечен свободный доступ к Туснельде.
Прекрасная германка.
Навстречу мне выбегает с корзиной белья в руках молодая рабыня, вскрикивает «ох!». Поднимает голову и замирает с открытым ртом. Разные глаза – это забавно, думаю я. Можно производить впечатление на девушек.
Я улыбаюсь, рабыня невольно тоже улыбается в ответ. Потом спохватывается, кланяется и бежит дальше.
Я иду.
Жизнь – прекрасна.
* * *
Наше родовое прозвище – Целест – означает Небесный. Это цвет. И высота полета. И, кажется, еще чистота помыслов… не помню. В общем, какая-то хрень в этом духе.
Верхний слой воздуха, самый легкий, по-гречески называется «эфир». На латыни его принято называть «квинт эссенция», пятый элемент.
В верхнем слое воздуха живут боги. Они дышат им, этим эфиром. Когда мы взываем к ним, наши мольбы должны преодолеть все слои воздуха, вплоть до верхнего, который, кстати, небесного – голубого – цвета.
Но молитва – это не самое главное. Главное – дождаться ответа.
* * *
Когда подхожу к своей комнате, я слышу чириканье. Жизнерадостное, шумное и – очень громкое. Не удержавшись, я сворачиваю и выглядываю в сад.
Проклятье! Мне становится не по себе… Все деревья, кусты, весь внутренний сад усеян, словно яблоками, коричнево-серыми птичками. Они шевелятся. Живой ковер устилает внутренний двор дома Квинтилия Вара – плотный, дышащий, чистящий перья, дерущийся, чирикающий. Воробьи сидят даже на статуях и на крыше дома… Их тысячи здесь. Тысячи.
Я моргаю. Потом облегченно вздыхаю. На самом деле воробьев немного, вряд ли больше сотни. Просто вольноотпущенница Вара решила поразвлечься, покормить птичек. Она бросает воробьям крошки и смотрит, как они дерутся.
Я слышал, Апулей, некогда любимый Августом писатель-декламатор, любитель сомнительных шуток, заказал себе в спальню мозаику: мертвый воробей, лежащий на медном блюде. Ему, мол, захотелось сделать вызов вкусам общества…
Ага, думаю я. Интересно, что бы сказал Апулей, увидев это?
Я вхожу в комнату, замираю на пороге. В моем комнате на полу лежат несколько мертвых воробьев.
Я моргаю. Еще раз. Нет, ерунда! Это всего лишь разбросанные вещи.
Вещи разбросаны – так, словно сюда ворвалась шайка мародеров. От моего хорошего настроения не остается и следа. Ну что за дела… Тарквиний!
– Старик, проклятье! Сколько раз говорить! – Теперь я действительно разозлен. Ну я ему задам. Я его отправлю на мельницу, молоть муку. Я из него вытрясу душу…
Я!…
Я замираю.
* * *
Он лежит, позади тянется след крови. Белый и как будто… сломанный, что ли?
Все будет хорошо. Даже если не будет.
Я опускаюсь рядом с ним на колени – так, что ударяюсь об пол, поднимаю его на руки. Голова Тарквиния откидывается… Нет, думаю я, нет! Он всего лишь задремал, старый соня.
– Тарквиний! – зову я.
Морщинистые веки прикрыты, словно он задремал. Я прижимаю к себе его голову, пытаюсь поднять тяжелое, какое-то неудобное тело.
Не умирай. Не смей умирать!
– Старик, – зову я. Провожу по седым волосам. – Старик!
В груди – рукоять ножа. Я боюсь ее задеть. Я тянусь к ней… одергиваю себя. Нельзя. Иначе он истечет кровью.
– Кто-нибудь! – кричу я. – Сюда! Слышите?!
За окном шумит ветер. Я слышу щебет птиц.
Тарквиний вдруг вздыхает. Еще жив. Сначала я думаю, что это кажется, но он с усилием открывает дрожащие старческие веки.
– Госпо… Гай… – Он делает попытку встать, но я держу его. – Я за… дремал… простите.
– Чтоб тебя, старик! Ну почему с тобой всегда одни неприятности? – говорю я и чувствую, что у меня дрожит челюсть. Глаза режет от слез. – А?
Молчание. Тишина в эфире.
* * *
Я не знаю, зачем люди это делают. Всегда трудно понять. Вот ты вглядываешься в свое отражение в воде пруда – а там какой-то идиот на тебя смотрит и плавают равнодушные карпы. Или мурены с угрями змеятся в тусклой воде. А ты изгибаешься в воде с глупым видом и думаешь: тебе скоро тридцать, и тога тебе не идет.
Я говорю: ну что за ерунда… Потом выхожу в сад и сажусь у фонтанчика. Здесь бы могла сидеть та черная нянька Туснельды. А рядом бы охал Тарквиний и ворчал, что у него болит спина… или бок… или еще что-то… и пить хочется, а вина молодой хозяин не дает… не ценит он меня, а я для него…
А нянька бы говорила: старый дурак, дай я тебе потру спину.
«Это всего лишь раб». Старый, глупый, вечно ворчливый раб.
Я сижу на скамье около фонтана и смотрю, как переливается вода. Каменная чаша заполнена вровень с краями. Вода плещется и стекает по стенам чаши, оставляя мокрые следы, наполняет бассейн.
Кажется, вокруг все темнее и темнее. Я поднимаю голову – нет, небо ясное. Моргаю.
Бешено пахнут цветы – азалии, кажется. Запах наплывает на меня волнами и клубится, в ночном воздухе борются друг с другом ароматы тамариска и розы, и эти мелкие красные… забыл, как их.
– Смешно, – говорю я.
«Я отправлю тебя в пекарню, глупый старик», – сказал я ему тогда.
Стыд пахнет цветами. Почему нам всегда так нестерпимо стыдно перед мертвыми?
Вода льется в чашу, расходится широкими кругами к краям… стекает по стенкам.
– Господин, что с вами?
Я поднимаю голову. Передо мной стоит та молоденькая рабыня, что шла с корзиной белья. На ее лице – ужас. Потом я смотрю на свои руки… свою тунику…
Багровое.
– Это не моя кровь, – говорю я.
* * *
«Ты ворошить пепел. Не надо».
Слова юной германки. Туснельда, Туснельда.
Похоже, пепел уже разворошен. И теперь летит мне в лицо – без всякого моего участия.
«Ты много не знать, римлянин». Но я – узнаю.
* * *
– Легат!