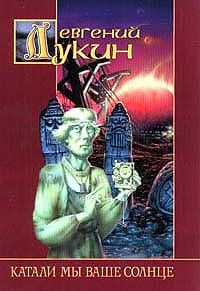— А сто зе Лют Незнамиц? — встрепенулся сидящий по левую руку от розмысла чернявый грек. — Словецка не молвил?..
На грека посмотрели с безнадёжным вздохом. Замолвит тебе, пожалуй, Лют Незнамыч словечко, жди… Храбрость-то у него есть, да только, вишь, за кустом припрятана…
И как знать, может, и покорились бы, повздыхав да покряхтев, но тут дверь рванули снаружи за скобу, и в клеть ворвалась разъярённая чумазая раскладчица, а вслед за нею влетел бабий визгливый гомон.
— Завид Хотеныч!.. Милостивец!.. — крикнула явившаяся без спроса. — Всей раскладкой тебя молим! Порви ты эту грамоту!
— Порви-и!.. — бесновато взвыла толпа у неё за спиной.
Розмысл вновь усмехнулся и сделал знак прикрыть дверь. Стало малость потише.
— Значит… говоришь… Чернава… порвать?.. — произнося врастяжку каждое слово, молвил Завид Хотеныч. — Добро… Порву. А потом что?
— Да мы за тебя… — Чернава задохнулась и вспомнила вдруг страшные слова десятника Мураша. — Солнышко в Теплынь-озере утопим!.. Преисподнюю спалим!..
Все так и спрянули с лавок.
— Цыц! Баба! — рявкнул огромный звероподобный сотник чальщиков.
— Молчать! — полоснул резкий голос розмысла. Завид Хотеныч снова повернулся к Чернаве, прожёг взором. — Поди скажи всем, чтобы собрались у пристани. Громадой решать будем…
* * *
Когда Кудыка тем памятным давним вечером протискивался с обозом меж сизо-чёрных хребтов золы, ему лишь с непривычки почудилось, что людишек на берегу много. А на участке тогда суетилась всего-то навсего одна смена. Теперь же шевелящаяся толпа разлилась от жерла до перечапа, не оставив нигде ни островка. Стояли даже на тёсаных камнях волнореза и во рву, хотя со дна жёлоба мало что увидишь. Низким угловатым утёсом чуть выступала из людского скопища голая пристань. Одиноко прямился на самом её краешке опальный розмысл, нависало над головами разбухшее вечернее солнце, плавала по багровому шару броневая заплата. А высоко над заморским берегом сияло едва начавшее розоветь греческое светило. В алой закатной воде пресмыкались ужами золотые отблески.
На камни причала взбирались по очереди главари да горланы и, надседаясь, норовили переорать сдвоенный ропот преогромной толпы и разболтавшегося Теплынь-озера, где волна шла на этот раз противно ветру, чистоплеском.
— Ну а дальше-то что?.. — жалобно вскрикивал сотник Нажир Бранятич, то и дело подаваясь вперёд и хватая себя обеими руками за рёбра, будто проверял, целы ли. — Не ведаете? А я вам скажу, что дальше!.. Перво-наперво Родислав Бутыч даст знать батюшке-царю, что участок наш возмутился против законной власти…
— Это кто нам батюшка?.. — взвыл из толпы десятник Мураш. — Ты кого это нам, морда твоя варяжская, в батюшки прочишь? Один у нас батюшка у навьих — Завид Хотеныч!..
— Да ты к слову-то не цепляйся!.. — крикнул ему с пристани Нажир. — Батюшка — не батюшка, а вот прикажет Столпосвяту снять наш участок с кормления — что тогда делать будешь?.. Чурки глодать?..
За махиною перечапа виднелись в розово-млечном мареве тёмные плоты, влекомые тягою лошадиной вдоль лукоморья. Хитрый всё-таки народ эти греки — нарочно для такой оказии дорогу по берегу протеребили: от Истервы и до самой аж до Еллады…
— Да ещё и войско нашлёт чего доброго!.. — не унимался Нажир.
— Осунется! — звонко полетело в ответ. — Чурыня вон с участка Люта Незнамыча две рати одной кочергой разогнал!..
Сотник вновь подался вперёд, истово подхватил себя под рёбра, желая, видно, возразить, но тут его как бы смыло с причала, а на месте его возник ощеренный Ухмыл.
— Где ты был, Родислав Бутыч, когда солнышку полный откат вышел?.. — выпятив кадык, рыдающе крикнул он, будто и впрямь надеялся, что крик его долетит до речки Сволочи и достигнет ушей главного розмысла преисподней.
Толпа взревела и жаждуще подхлынула к камням пристани.
— Где ты был, когда мы ему окорот давали и попятно на лунку вскатывали?.. — выждав, когда народный вопль спадёт, снова возрыдал Ухмыл. — Ты о чём тогда мыслил, хрыч взлизанный?.. О том, как горю пособить? Или о том, как бы Завиду Хотенычу яму вырыть?.. Думаешь на самого лопаты не выросло?..
Долго, долго не слышно было после этих слов плеска Теплынь-озера. Рёв стоял такой, что мнилось, будто и не толпа воет, а солнышко раньше времени падает…
— И вот что я вам, братие, скажу!.. — осипнув, надрывался Ухмыл. — Надо участок Люта Незнамыча подымать!.. Ежели два участка всколыхнутся — это, считай, половина преисподней!.. Ничего они тогда с нами не сделают!..
Захрипел, махнул рукой и спрыгнул в толпу, а на причал уже выбрался вёрткий чернявый грек — тот самый, что сидел тогда в клети по левую руку от розмысла.
— Ми, греки — цестны целовеки!.. — начал он. — Мине Лют Незнамиц сто тетрадрахм[91] долзен… И сотник его Цуриня тозе долзен… Вот они где у меня все — в зепи!..
Стоявшие поближе злорадно взгоготнули, но вскоре уразумели, что грек имел в виду как раз зепь, то бишь привесной карман, причём произнёс это словцо на диво правильно. Околотился, видать, в людях-то…
Заслышав смех, чернявый обиделся, взмахнул руками, и стал запальчиво доказывать, что в зепи у него не только розмысл с сотником, но и весь участок Люта Незнамыча…
Распалившись, он уже принялся потрясать бирками, на которых у него были зарублены все должники, однако стоявший дотоле неподвижно Завид Хотеныч внезапно вскинул голову, и по толпе прошла рябь — все тревожно повернулись к розмыслу. Грек растерянно умолк, закрутил башкой.
— Да что они там, пьяные все, что ли? — гаркнул Завид Хотеныч, уставив обезумевшие тёмные глаза поверх толпы.
Наконец смекнули оглянуться — и обмерли. Над чёрно-сизо-розовыми хребтами золы сиял краешек возносящегося в небо нечётного солнышка берендеев. В то время как чётное ещё только клонилось к закату…
* * *
А вот такой оплошности и впрямь никогда не приключалось. Ну, бывало, что протянем с ночью, изредка стрясётся и так, что погаснет добросиянное в полёте, и волхвы долго потом толкуют доверчивым селянам о каком-то там солнечном затмении… Но чтобы выгнать в небушко оба изделия разом? В один и тот же день?..
Однако Завид Хотеныч ошибся, гаркнув насчёт пьяных. Отнюдь не с похмелья метнули до срока из-за Кудыкиных гор светлое и тресветлое наше солнышко. Да и Родислав Бутыч погорячился, объявив на следующее утро, что виной всему — теплынские засланцы-лазутчики. Просто известная сплетница да повирушка Плюгава с участка загрузки шепнула жене сотника, что муженёк её… А впрочем пёс её знает, что она там шепнула!.. Может, и не шептала ничего… Ведомо только, что ревнивая сотница налетела на своего ладушку и, расчепыжив в пух,[92] принялась гонять по всему кидалу, то бишь катапульте, причём с греческой лампой в руках, хотя Уставом Работ строжайше запрещено подходить с огнём к загруженному чурками изделию ближе, чем на девять переплёвов. Мало того, метнув лампу в головушку супруга, сотница промахнулась и вмазала скляницей в снаряжённое, готовое к запуску солнышко. Лампа лопнула, горящее масло затекло в одно из поддувальных дыхалец, и тресветлое, жутко молвить, занялось, да так споро, что и не подступись…