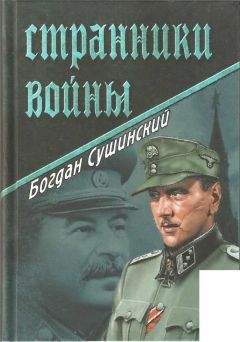К ней невозможно было привыкнуть. И после, когда Адобекк отяжелел и состарился, а она все оставалась молодой, он продолжал благоговейно принимать любую минуту, проведенную поблизости от нее.
Случалось, она озорничала, дразнила его — впрочем, следует отдать ей должное: достаться могло кому угодно. Она могла нарочно разлить масло в приемном покое и с деланым негодованием наблюдать, как скользят и пытаются сохранить равновесие придворные. Могла подсыпать в лампы вещества, распространяющие страшное зловоние, а после сидеть с каменным лицом. Могла надеть для бала платье, которое рвалось при первом же неловком прикосновении кавалера и падало к ногам ее величества. Заставляя нового при дворе человека ждать себя в рабочем кабинете, оставляла на столе с десяток подписанных смертных приговоров вымышленным лицам, а после любезничала с посетителем и с удовольствием подмечала ужас в его глазах.
Адобекк знавал ее и гневной: она становилась выше ростом, в ее глазах вспыхивали зловещие звезды — от зрачков расходились горящие золотые лучи, заполняя радужку светом; темные розы проступали на щеках, и очерченные тусклым золотом контуры изогнутых, как бы смятых гневным движением лепестков, мерцали. Ее негодование вызывали известия о крестьянских бунтах, о растущем недоверии к династии, о клевете на принца, разговоры о том, что герцог Вейенто — там, у себя, на севере, — по-настоящему заботится о людях, в то время как эльфийская нелюдь медленно убивает свой народ.
Но никогда прежде Адобекк не видел свою королеву такой — встревоженной, огорченной, почти сдавшейся. Нежно-смуглое лицо посерело, волосы подернулись пеплом. Она вызвала конюшего к себе в личные покои и ждала его, разметавшись на низеньком креслице с широким сиденьем, толстыми ножками и удобной спинкой, обложенной подушками. Свет из стрельчатого окна у нее за спиной падал так, что Адобекку поначалу был виден только силуэт: напряженный поворот головы, слишком остро выдающаяся скула, провал там, где прежде округлялась щека. Волосы забраны назад и беспощадно стянуты лентой — ни одна вьющаяся прядка не ласкает висок невесомым прикосновением. Фигура сидящей женщины тонула в тяжелых складках домашнего одеяния, и только острый носок туфли виднелся из-под подола, отставленный слегка в сторону.
Адобекк поклонился, сделал несколько шагов — и только потом увидел лицо ее величества. Он замер.
Она медленно подняла на него глаза:
— Что?..
— Вы постарели, — сказал он.
Она не шелохнулась.
— Конечно, — вымолвили невозмутимо губы. — Я ведь человек и тоже подвластна времени.
— Мы с вами оба знаем, что это не так! — произнес Адобекк.
— Вы меня упрекаете?
Он промолчал.
Королева переложила правую руку с колена на подлокотник.
— Как умирают эльфийские короли? — спросила она. — Вы знаете?
Адобекк продолжал хранить безмолвие.
— Они не стареют... Они просто умирают, — продолжала королева. — Если бы моя кровь была чистой кровью Эльсион Лакар, нам долго пришлось бы ждать разлуки... Эльсион Лакар остаются вечно молодыми — пока не наступает для них пора уйти, и тогда старость приходит мгновенно и так же мгновенно уносит свою жертву с собой. За годы бесконечной жизни эльфы успевают стать достаточно мудрыми, чтобы принять свой уход как должно. Впрочем, любого из них можно попросту убить...
Она наконец шевельнулась, колыхнулись все складки её одеяния разом, слышен был даже легкий стук туфелек, когда ножки переступили с места на место и скрестились.
— Но я — не чистая Эльсион Лакар, — продолжала королева. — С каждым новым поколением мы стареем все быстрее. Меня это не огорчает... А вас?
Вопрос прозвучал внезапно. Адобекк вздрогнул: слишком много горечи таилось за этими словами. Боясь, что голос предаст его, он безмолвно покачал головой.
— Хотите, чтобы я стала вам ровней? — спросила она.
— Нет... — выговорил он.
— Тогда в чем же дело?
Королевский конюший наконец решился.
— Мне безразлично, молоды вы или стары, — сказал он. — Красивы или безобразны. Умны или глупы. Я люблю вас, ваше величество... Счастье — находиться рядом с вами. Поблизости. В отдалении. Но только так, чтобы видеть вас.
Она отвернулась. Тихо простучала пальцами какую-то мелодию по ручке кресла. Адобекк неожиданно подумал: «Эмери бы сразу узнал тему и написал бы несколько вариаций... У Эмери превосходно получалось делать такие вещи. Настроение эльфийской королевы — всегда музыка, и сегодня это ноктюрн...»
Неожиданно она резко развернулась в его сторону. Одеяние стремительно смялось, перекрутилось на гибком теле женщины — так вытягиваются складки застывшей вулканической лавы, обозначая путь разрушительного потока: мантия бушующей стихии.
— Я знаю, что говорят о моем сыне! — сказала она. — Консорт, его отец, был прекрасным человеком, знатным и отважным; не моя вина, что он погиб так рано... Его дитя не может быть таким, как мне рассказывают.
— Каким? — тихо спросил Адобекк.
— Вам, полагаю, лучше знать — разве вам не докладывают обо всех сплетнях, что бродят вокруг «малого двора»? И ваш хваленый искренний племянник ничем не помог — корчит из себя шута, шляется по трактирам и разводит нежности с любой согласной на это особой противоположного пола... Талиессин по-прежнему одинок, никому не доверяет, никого не слушает. И его жизнь по-прежнему в опасности.
— Возможно, слухи только помогут уберечь его высочество, — осторожно высказался Адобекк.
Она вздернула брови.
— Поясните.
— Если будут считать, что принц — вовсе не Эльсион Лакар, что он не в состоянии иметь потомство, что он... почти не человек, но лишь испорченная эльфийской кровью причуда природы, то не будет смысла и в его устранении.
— О! — Брови королевы, по-прежнему поднятые, дрожали от напряжения. — Вот как вы рассуждаете! «Устранение»... Какое чудное слово! Какое... холодное.
— Это всего лишь слово, любимая, — сказал Адобекк.
— Да. — Она опустила брови, опустила плечи, осела в кресле. — Ты все еще стоишь? Сядь. Ты можешь сесть.
Других кресел в комнате не было — это была туалетная, поэтому Адобекк устроился прямо на полу.
Она сняла туфли, положила ступни ему на колени. Адобекк с удивлением увидел, что королева не лукавит, когда говорит о приближающейся старости. Ее лицо могло сделаться серым от усталости и долгой непреходящей тревоги. Но такими же увядшими были и ее ноги: они перестали быть упругими, кожа на них чуть обвисла, и, как показалось Адобекку, особенно мизинчики приняли печальный вид. Наклонив голову, он поцеловал их.
Королева, казалось, догадалась обо всем.
— Ты понял, — вздохнула она. — Теперь ты мне веришь.