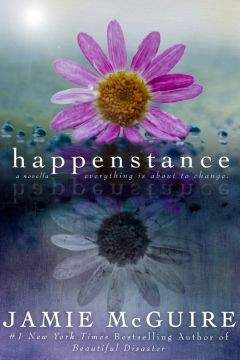У старика типичная чикагская квартира: сильно накурено — только вот запах не как от обычных сигарет — скорее, от сигар. Она маленькая, и я чувствую это, потому что могу спокойно дотянуться правой рукой до одной стены, одновременно касаясь левой рукой противоположной. Но Ким говорит, что это только прихожая.
Меня усаживают за стол, на твердый, но невероятно гладкий стул, будто полированный. И ставят передо мной тарелку с аппетитно пахнущим бифштексом. Ей-богу, этот запах узнаю среди тысячи!
Мне плевать, даже если мясо отравлено. Плевать, даже если этот милый старичок вовсе не такой милый, каким кажется. Плевать, даже если Ким имеет на мой счет какие-то свои планы. Плевать. Я не ела уже целую вечность.
Незнакомец уже не такой незнакомый, и у меня такое чувство, что я разговаривала с ним всю свою жизнь, вот так, ртом, под завязку набитым бифштексом.
Даже не успеваю заметить, что уже не слышу тяжелого дыхания Кима. Не успеваю уследить, когда именно он уходит.
— И давно вы путаетесь с мафией? — неожиданно ровно спрашивает старик. Такое чувство, что он спрашивает так, между делом, от простого любопытства. Если бы я видела выражения его лица — наверняка, равнодушно-пренебрежительное, то наверняка бы поверила, — но я учусь слышать. И я слышу слишком большой смысл в этом, на первый взгляд, несерьезном вопросе.
— Меня списали несколько лет назад, — так же неопределенно, как и он спрашивает, отвечаю я и пожимаю плечами. Для верности. — И это не мафия, мистер. Я бы не употребляла такое слово.
Старик испускает весьма дерзкий смешок и касается своей ладонью моей. У него кожа шершавая, высушенная, а у меня гладкая, юная. И мне почему-то хочется, чтобы все было наоборот, чтобы я была старше, чтобы могла смотреть на этот мир своими глазами. Не чужими.
— У вас руки холодные, — шепчу. Старик не реагирует. Он хочет что-то сказать: я чувствую, как он издает непонятные булькающие звуки и снова закрывает рот. Он думает, что я очень упрямая. Ищет слова.
— Вы знаете, Кесси, — я вздрагиваю, когда он называет мое имя. Почему-то все все обо мне знают, каждый может посмотреть на меня со стороны и сделать выводы. Каждый — свои. — Сколько вам лет? Двадцать? Двадцать пять? В таком возрасте, Кесси, все еще можно поменять. Еще можно забыть свое прошлое и начать все с чистого листа. Как будто ничего и не было. Просто поймите, потом будет уже поздно. Вы можете остаться здесь, в Чикаго, смените имя, перекрасите волосы. Вы можете начать новую жизнь. Все зависит только от вашего желания, Кесси.
В моей голове проносится мысль, что я, возможно, не в себе, а этот человек — вероятно — моя совесть. И в этот момент он говорит мне то, о чем я так боялась даже подумать все эти годы. Мне всегда казалось, что иметь вот такое прошлое, как у меня, равносильно тому, чтобы провести все это время за решеткой. И когда ты оказываешься на свободе, то первоначально кажется, что невозможно забыть, невозможно выкинуть из памяти. Думаешь, что это будет с тобой вечность, что это стало частью тебя, невидимой меткой, которую невозможно будет отодрать от себя ни при каких обстоятельствах.
И, тем не менее, старик прав: все еще правда можно забыть, пока действительно не стало поздно. Пока еще есть время.
Но — невовремя — вспоминаю, что я уже влипла по самое "не хочу". Вспоминаю, что за мной уже гонится шайка головорезов. Вспоминаю, что с этим странным словом "прошлое" связан Ким. А я не могу без всего этого. Иначе это уже не я — это какая-то другая Кесси, с которой я определенно не знакома.
Сменить имя, покрасить волосы…
С таким же успехом он мог предложить мне сходить в крематорий и выбрать себе новое тело. Можно даже новую память.
Вспоминаю того ублюдка, чье лицо я увидела в своей жизни последним. Вновь и вновь вспоминаю, как он спрашивает меня, верю ли я в Бога. Это похоже на кошмар. Бесконечно прокручиваемый в моей голове кошмар, который невозможно забыть, просто приняв снотворное.
Это часть меня. Часть того, что Ким зовет "Кесси". Едва ли не самая главная часть.
Я качаю головой.
— Простите, но мне кажется, что уже. Уже слишком поздно.
Внезапно бифштекс резко становится безвкусным и уже больше не лезет в горло, останавливается где-то посередине пищевода. Омерзительное чувство. И мне самой как-то гадко-тошно от того, что, возможно, я только что разрушила последнюю надежду этого старца, к которому я успела проникнуться такой симпатией.
Неожиданно для самой себя я понимаю, что уже подсознательно ищу руку старика. Чтобы согреть.
Мне почти что стыдно. И за своими эмоциями я не успеваю проследить, что старик едва заметно смеется, — я слышу только мощные колебания его груди. Возможно, это и вправду смех.
— Я так и думал, — гремит он, по-прежнему сотрясаясь от неслышимого смеха. — Вы сильная, Кесси, вы знаете? Любой другой на вашем месте бы сломался. Но не обольщайтесь, дитя мое, предстоит вам претерпеть еще слишком много. Знаете, я даже уверен, что нам с вами больше уже и не встретиться. У меня такое чувство, что просто не суждено. Вы верите в судьбу, Кесси?
Я качаю головой. Слишком быстро, чтобы успеть подумать. Но я где-то слышала, что первая реакция — она самая верная. Буду надеяться, что так оно и есть.
— А Бог — это судьба. Моя. Ваша. Вашего друга. — Голос старика становится необычайно серьезен. — Значит, вы и в Бога не верите.
Я молчу.
Они все хотят, чтобы я говорила только то, что угодно им. Каждый жаждет этого, обращая мои же слова против меня. Людям нравится унижать меня, думать, что раз слепая, значит, все прощает. Но я не такая. По крайней мере, мне не хочется, чтобы меня считали такой.
И, говоря, что я не верю, этот старик как бы подталкивает меня к аналогичному решению. Не верю — не верю — не верю…
Он внушает мне вещи, которые с первого раза кажутся верными, простыми и такими понятными. Пытается заставить меня осознать собственную ничтожность, хочет убедить меня, что в этих бусах я не бриллиант — всего лишь рядовая бусинка.
И я почти верю. Почти.
…
Из своих воспоминаний я помню, что у каждого человека есть тень. Его собственное вполне материальное альтер эго.
Ким снова рядом, и я ясно, практически физически чувствую, как его тень прикасается ко мне. Теплыми, бархатными щупальцами. И от этих прикосновений становится тепло.