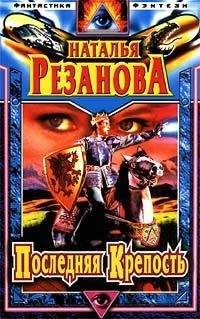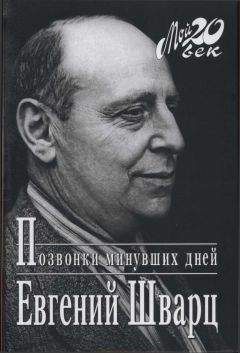— у страха, как известно, глаза велики. В Аллеву прислали чуть ли не драгунский полк, чтобы изловить душегубов. Но поиски и облавы ни к чему не привели. Зато жалованье, которое везли драгунам, было похищено. Впрочем, в последнем горожане не были уверены. Некоторые утверждали, что деньги, пользуясь возможностью списать все на разбойников, украл полковой казначей. Но так или иначе, по прошествии двух лет грабежи и убийства вдруг прекратились сами собой. Драгуны, от которых горожанам было гораздо больше беспокойства, чем от разбойников, ушли, в Аллеве вздохнули с облегчением, и постепенно стали все забывать. И забыли. И вот о прошлом годе умирает в Аллеве одна почтенная старая вдова — мать уважаемого семейства, богатая, благочестивая и добродетельная дама И на смертном одре заявляет, что не желает уходить в могилу отягощенной страшными грехами, ибо все богатства их дома нажиты неправедным путем Потому как все тогдашние грабежи и убийства совершила она вместе со своей подружкой. Им было тогда лет по шестнадцать — семнадцать. Она служила в городской гостинице, что позволяло без труда добывать нужные сведения, а подруга обеспечивала лошадей. Никто не подозревал и не опасался двух молоденьких девушек. И они тщательно заботились о том, чтобы никто не сумел их опознать. Потом они пришли к выводу, что денег у них уже достаточно и пора остановиться, пока удача не изменила. Они разделили добычу, подруга уехала на Юг, а та, что осталась, ушла со службы, заявив, что получила наследство. Вскоре она вышла замуж, удачно поместила капитал, и все шло прекрасно, но… Час пробил, ангел смерти явился, и так далее. И нет бы ей покаяться перед своим духовником, который вынужден сохранять тайну исповеди, нет, она сделала свое признание в присутствии многочисленных детей и внуков, врача и нотариуса. При этом завещания, где бы четко говорилось, что делать с неправедными деньгами, она не оставила. Вообще-то по закону прямые наследники получают все, независимо от наличия завещания. Но перед ними встал вопрос — что им делать, если все семейное достояние добыто кровью? И ведь не скроешь уже, в городе все известно… Вернуть награбленное, передать деньги на благотворительность? Но ведь это происходило так давно, имена убитых забылись, а деньги, обернувшись через банки и торговые сделки, — уже совсем другие. Когда я попала в тюрьму, они все еще не решили этого вопроса.
— Вранье, — бросил Хрофт.
— Проверьте, — сказала я голосом убиенного дозорного наемников и отпила фораннанского.
— Я допускаю, что это истинная история, — сказал Фрауэнбрейс, — но, согласитесь, звучит она не вполне… правдоподобно.
Рик, в камзоле цвета цыплячьего пуха, расшитом золотой нитью, взирал на меня благосклонно. Может, потому, что моя голова пришлась в тон его наряду.
— А меня совершенно не волнует, правдива ли история, которую я слушаю. Я требую от нее лишь одного чтоб она была занимательна. Эта — занимательна, а было ли то, о чем в ней повествуется, на самом деле или она является совместным плодом чистого вымысла и вдохновения — не все ли равно? — Он салютовал мне бокалом.
Хрофт, которому при всем злоязычии в жизни бы не видать подобного периода, подавленно промолчал.
Но меня не волновали его переживания. И даже сердечный друг Без Исповеди был мне сейчас не так интересен. Каэтан Фрауэнбрейс — единственный, о ком я еще не имела возможности составить собственное мнение, а прочие заговорщики ни словом не пролили света на его личность.
Если и был в этом мире, подобном другим и отличном от них, человек, коего сей мир обтекал, не соприкасаясь с ним, то это как раз тот, кто сидел передо мной. Что-то в его облике напоминало мне прибрежную гальку, отполированную волнами, — серую, гладкую и жесткую. И совершенно лишенную внешних примет — я с трудом узнала его при встрече, а у меня всегда была хорошая память на лица. И сейчас я пыталась получше запомнить его, но в первую очередь в глаза лез его наряд — безупречно пошитый камзол, пурпурный с синими простежками, перевязь с аметистами, широкий кружевной воротник — хотя и не такой широкий, как у Альдрика… и бледное лицо с мелкими чертами, клочок бороды на подбородке — у нас эта тримейнская мода не прививалась, здесь мужчины или брились, или запускали окладистые бороды. Возможно, представитель герцога в Тримейне нарочно одевался так элегантно, чтобы на лицо его не обращали внимания. А может, это суждение произнесла моя всегдашняя подозрительность.
Рама окна за его спиной и поза напоминали портрет. И в самом деле — у нас на Севере художники любят изображать на портретах окно, в котором видна панорама города. Как раз панорама города за окном и была видна. Но не только города. Поместье Хольмсборг, как ясно из названия, стояло на высоком холме, с которого открывался вид на залив с белыми парусами на зеленых волнах, городок в глубине и на замок, стоявший на огромной скале на восточной, противоположной от нас стороне залива, и опоясанный мощными стенами. Укрепления, многочисленные башни и башенки бросали тень на морские волны и на город. Но тень замка отнюдь не угнетала местных жителей, наоборот, она была залогом процветания.
Бодвар — небольшой, яркий, опрятный был скорее увеселительным, чем торговым поселением. Что не значит, будто обитали в нем бездельники. Перчаточники и сапожники, портные и шляпники, пекари и кондитеры и прочие ремесленные мастера — все здесь имелись. Но лишь те, кто работает по юфти и сафьяну, шьет из шелка и бархата, печет хлеб из тонкой белой муки. Замок на скале был летней резиденцией герцога, и над главной башней морской ветер полоскал знамя с единорогом. А Бодвар обслуживал нужды герцогской свиты, а также наезжавшей сюда поразвлечься эрдской знати.
Нынешним летом, правда, было не до развлечений — ни охот в окрестных пустошах, ни сельских праздников, ни театральных представлений. Хотя престарелый Гарнего Иосселинг, герцог Эрдский, как всегда в это время года, посетил свой любимый замок. Болезни и годы уже давно томили его, но впервые он отменил установленные этикетом увеселения.
Горожане притихли и каждое утро первым делом задирали головы, ища взглядами герцогский штандарт на вершине башни. И, видя, что он не приспущен, облегченно вздыхали и крестились. Старика в замке ленились называть полным именем и титулом, с ним мало считались, его ругали в кабаках, но к нему привыкли. Казалось, он был всегда, хотя не так уж долго он носил герцогскую корону — ненамного больше, чем я живу на свете. И если подумать, не такой уж он был старик. Но горячая некогда кровь Йосселингов выкипела, и преждевременная дряхлость стала их уделом.
Господи! Ну неужели, если оба брака герцога были бесплодны, он не мог решить вопрос с наследием как-нибудь по-иному? Избавил бы себя и подданных своих от множества хлопот. Еще о прошлом годе это не поздно было сделать. Женился бы в третий раз, это и церковь вполне дозволяет, даже обычным людям, не говоря уж о правителях. В шестьдесят с небольшим многие мужчины способны состряпать молодой супруге наследника. А если нет, молодые супруги обычно обходятся сами, и те, кто желает, чтоб род их продолжился, как правило, закрывают на это глаза. Если же такой вариант ему претил, известен и другой