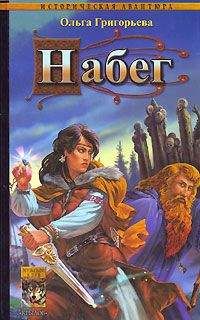— Эх, твое семя, вся в тебя — тишком, молчком, а нашла теплое место!
— Разве нам или ей оттого хуже будет? — Мать заботливо уложила полотенце на сундук в углу. Словно убеждая себя и мужа, принялась рассуждать: — Человек он, по слухам, хороший, зазря не обидит. В Реймсе у него большой дом, слуги… Гейнцы говорят, он щедрый, а в доме подолгу не сидит, поэтому его люди сами себе хозяева. Да и архиепископ к нему благоволит. Разве архиепископ дурного человека возвысит? А тут-то что? Господин граф нас не балует, а у нас и без нее две дочери. С ними еще намаемся, куда третью-то? Слава Богу, господин граф не противился, отпустил…
Отец почесал бок, оставляя на светлой коже следы от ногтей, ухмыльнулся:
— Чего ж не отпустить, если не задарма…
Подошел к матери сзади, обхватил за талию. Потянул к себе, замычал:
— Ты ведь тоже не задарма отпустила, а, змея? Не задарма ведь?..
— Погоди ты, не до того… — Мать вырвалась, склонилась над сундуком, вытащила из него тряпичный узелок. С боков узелка болтались увязанные бечевкой сапоги из телячьей кожи. Позапрошлой осенью их носила Элиса. Потом они стали Элисе малы, и мать спрятала их в сундук со словами: "Еще пригодятся".
— Держи, — мать протянула узелок Марго.
Девочка взяла, удивленно уставилась на сапоги, потом перевела взгляд на мать. После объятий отца та раскраснелась, даже похорошела. Шагнула к Марго, неловко обхватила ее обеими руками, притянула к теплой, пахнущей очажным дымом груди. Ткнулась губами куда-то в макушку дочери, затем отпихнула от себя, быстро перекрестила:
— Ну, пошли, дочка. С Богом…
Ни к нежданным ласкам матери, ни к наполнившим ее глаза слезам Марго не привыкла. Внутри зашевелилось предчувствие чего-то страшного и неотвратимого. Марго повернулась к отцу. Он уже надел рубашку и теперь приглаживал огромной пятерней светлые волосы. Наткнулся на вопросительный взгляд дочери, нахмурился:
— Чего стоишь? Не слышишь, что мать сказала?
Марго отступила к двери. Предчувствие стало наливаться тяжестью, свело судорогой ноги. Прижимая к груди узелок с вещами, Марго облизнула пересохшие губы, прошептала:
— Я не хочу.
— А тебя не спрашивают. — Отец надел на голову ленточный обруч, стянул концы в узел на затылке. — Господин Ардагар тебя ждет. Так что иди с матерью и не хнычь, пока она проводить может. Не то одну отправим.
— Куда? — сглатывая слезы, спросила Марго.
Все знакомое ей с рождения изменилось, как по колдовскому умыслу: суровый отец стал добрым; кислый запах, постоянно царивший в доме — приятным, жесткая лавка — мягкой. Даже узелок, который Марго сжимала в руках, согревал ее, а старые изношенные сапоги Элисы казались лучшими сапогами на всем белом свете…
— В монастырь, куда ж еще? — хмыкнул отец. — А там уж — куда новый господин прикажет…
— Идем, дочка, идем. — Ласковые материнские руки подпихнули Марго к дверям.
Она все еще не понимала, сделала несколько шагов, остановилась.
— Я больше не буду, — прошептала она.
Если бы ей разрешили остаться, она и вправду никогда больше не стала бы шалить или убегать со двора без разрешения. Она научилась бы принимать наказания без слез и жалоб. Она стала бы работать в поле, молиться каждый день по многу-многу раз и перестала бы "болтать языком и разносить сплетни". Она могла бы даже вообще не разговаривать и молчала бы весь остаток жизни, выполняя все-все, что захотели бы родители…
— Иди уже! — отмахнулся отец. Отвернулся.
Что-то рядом глухо застучало. Марго поглядела, откуда идет звук. Один сапожок, выскользнув из ее рук, раскачивался на бечевке, бился каблуком о косяк, словно просился обратно, домой.
Руки Марго задрожали. Мать положила ладонь ей на плечо, потянула за собой, в сумрак дремлющего двора:
— Идем…
Марго вытерла сползающую по щеке соленую влагу, двинулась за ней. Она уже знала, что не вернется, чувствовала это, но все-таки еще на что-то надеясь, спросила у материнской спины:
— Я ведь еще вернусь к вам? Вернусь, правда?
Мать промолчала, даже не оглянулась. И тогда Марго заплакала. Не остановилась, не повернула назад и даже не сбавила шаг — просто шла следом за предавшей ее матерью и плакала, захлебываясь навалившимся на нее горем.
В Каупанге люди говорили, что горестные дни текут медленно, как мед из широкого кувшина, а радостные проносятся весенним ураганом. Покинув родную усадьбу, Сигурд понял, что это — вранье. Горе, как и радость, мчали быстрокрылыми ласточками по его судьбе, вспарывали душу острыми крыльями, сменяли друг друга, путаясь в нескончаемом полете. Казалось, совсем недавно корабли Рагнара покинули Гаммабург, совсем недавно хирд Бьерна лишился своего хевдинга и многих других достойных воинов, но дни утекли вдаль, как утекли берега широкой Лабы и все вернулось на свои места. Словно никогда не было на драккаре молчаливого Бьерна, мудрого Кьятви, желтоглазого смельчака Харека, загадочной словенской колдуньи или светлоликой дочери альдожского князя…
Возле берегов Фризии Рюрик стал хевдингом над людьми Бьерна. Мальчишка занял место погибшего ярла по праву родства, как-никак он был приемным сыном конунга Гейрстадира, а более знатных воинов в хирде не осталось. К тому же большая часть уцелевших на драккаре хирдманнов и так была в его власти. Остальные, то ли оглушенные горем, то ли опасаясь стычки, безропотно принесли ему клятву верности спустя два дня после боя с варгами. Сигурд тоже. В общем-то бонду было безразлично, кто возглавит осиротевший хирд Бьерна. Мальчишка Рюрик был не хуже и не лучше других. Сигурд полагал, что по малолетству решения за нового хевдинга все равно будут принимать более опытные воины, такие как Латья, Тортлав или Гримли из Вестфольда, посланный Олавом Гейрстрадира для охраны своего воспитанника. К удивлению Сигурда, за все время пути мальчишка ни разу не попросил у них помощи или совета. Если ему советовали, он слушал, однако решение продолжить поход с войском Рагнара в земли франков принял сам.
— Мы покинули Каупанг тремя драккарами, на каждом из которых было по сорок воинов и богатые дары для конунга Альдоги, — сказал он. — Теперь у нас нет богатств, трех драккаров и мало воинов. Наше возвращение домой будет позорным. Разве кто-нибудь из нас заслуживает позора?
Позора никто не заслуживал, это признали все без исключения.
— В городах франков мы добудем золото и славу, — продолжал Рюрик.
Он стоял возле мачты, в тот день ветер помогал кораблям и гребцы могли отдохнуть. Они сидели и смотрели на тонкую мальчишескую фигурку, на его белые, как снег, длинные волосы и плещущееся за его спиной полотнище паруса. В тот день они не думали о тех, кто навсегда остался на берегах Лабы, или о тех, кто лег на морское дно в суровых водах Меркленбургской бухты. Хирдманны думали о своих родных, оставленных в далекой северной земле, и о том, кем им хотелось бы вернуться: безвестными трусами или смельчаками с богатой добычей. Поэтому, когда Рюрик спросил: